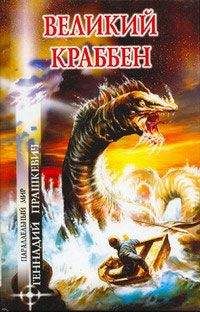Я же не один, громогласно ответил Юренев. Меня Роджер Гомес по дороге перехватил. Юренев хищно хохотнул, и я представил, как он там счастливо и изумленно моргает. Присутствие Роджера условие больше чем достаточное, правда? Юренев счастливо всхрапнул, совсем как лошадь, похоже, ему там с Гомесом здорово было хорошо. Хвощинский с тобой? Вас тоже двое? Юренев не к месту заржал. Сейчас мы с вами воссоединимся.
– Выходи, – попросила Ия все тем же бесцветным незнакомым мне голосом. – Брось все, как есть, бери Роджера и выходи. Только вместе с ним, не отпускай его от себя ни на шаг.
Они прямо сейчас выйдут, громогласно пообещал Юренев. Бутылка рома у них здоровущая, но они ее почти допили. А сейчас допьют остатки. Не тащить же полупустую!
Я слышал каждое слово, потому что Юренев вошел в форму.
Он торжествовал: ром у них ямайский, не мадьярского разлива! Бутылка большая, тоже не мадьярская, мы ее сейчас прикончим. Роджеру сильно понравился семейный портрет, счастливо рычал Юренев где-то там, на другом конце телефонного провода. Особенно понравилась Роджеру обнаженная женщина в центре семейного портрета. Роджер утверждает, что эта обнаженная женщина сильно похожа на обнаженную колумбийку. У них же там мафия! Юренев всхрапывал от удовольствия. Сейчас они досмотрят обнаженную колумбийку и сразу выйдут. Можете встретить, разрешил он.
– Выходи…
У меня сжалось сердце.
Они называют это свободой?
Они бояться каждой мелочи и впадают в транс при одном лишь упоминании о каком-то там длинном алом шарфе?
«Нам надо быть сильными»
Хороша свобода.
Я смотрел на Ию чуть ли не с чувством превосходства.
Она подняла голову и перехватила мой взгляд.
Я покраснел.
– Идем, – негромко сказала она. – Потом ты все поймешь. Невозможно все это понять сразу. Сейчас нам надо встретить Юренева.
Я задохнулся.
Всего квартал, но мы с первого шага взяли резвый темп.
– Подожди, так мы разминемся с Юреневым.
– Здесь не разминешься.
– Все равно, не беги. Если они дома, значит, все в порядке. Юренев не один, с ним Роджер. Юренев сам сказал: условие более чем достаточное.
– Идем!
Перебежав пустой проспект, мы сразу увидели дом Юренева. Наполовину он был скрыт темными соснами, но свет из окон пробивался сквозь ветки.
– Они еще не вышли, – удивился я. – Наверное, ром действительно оказался не мадьярского разлива.
Светящиеся окна выглядели удивительно мирно.
Они успокаивали, они настраивали на спокойный лад.
В конце концов, все, как всегда. Самый обыкновенный душный июльский вечер.
– Видишь… – начал я.
И в этот момент свет в окнах квартиры Юренева погас.
– Они выходят?
– Наверное…
Но что-то там было не так.
Что-то там происходило не так, как надо.
Боковым зрением я отметил: Ия молча стиснула кулачки и прижала их к губам.
Свет вырубился не в одной квартире, даже не в двух, а сразу во всем подъезде. Рыжеватую облупленную стену здания освещали теперь только уличные фонари. По рыжеватой облупленной стене ходили причудливые смутные тени. И мы отчетливо видели, как крошится, разбухает, выпячивается странно бетонная стена дома, будто изнутри ее выдавливает неведомая сила.
Как фильм, сработанный замедленной съемкой.
Как фильм, кадры из которого мы уже где-то видели.
Всего лишь отдельные кадры, распечатанные на фотографиях, но мы видели их, видели…
Хлопок, совсем не сильный.
Треск ломающихся ветвей. Облако пыли.
Панель с грохотом вывалилась на пешеходную дорожку, продавливая и разбрасывая асфальт. Сыпались куски штукатурки, катилась по дорожке пустая кастрюля, бесшумно планировали бумажные листки. Сам дом устоял, но на уровне четвертого этажа возникла, зияла чудовищная черная дыра.
Свет фонарей таинственно преломлялся в облаке пыли, таинственно играл на осколках стекла. Мы явственно видели сквозь зияющую дыру в стене дома завернувшийся край ковра, перевернувшееся кресло и даже этот проклятый семейный портрет. Он висел на своем месте. Скорее всего, Юренев только что показывал его Гомесу.
Я не столько видел, сколько узнавал открывавшееся перед нами.
Ия больно сжала мне руку. Но до меня и так уже дошло: длинная трещина, прихотливо расколовшая бетон, была вовсе не трещиной.
Это был шарф.
Алый длинный шарф.
В свете фонарей он казался черным.
Послышались испуганные голоса, где-то неподалеку взвыла милицейская сирена.
Обежав угол дома, я рванул дверь подъезда.
Во тьме, в пыли, кто-то перхал, ругался неумело по-русски, шарил перед собой руками. На полу что-то валялось. Может быть, раковина. Я бежал вверх по задымленной лестнице, мимо распахивающихся настежь дверей, сквозь испуганные голоса, бежал, прыгая сразу через несколько ступенек. Бежал, задыхался, но самое страшное, я уже знал, что именно сейчас увижу.
Так и оказалось.
Взвешенная дымка, пыльная муть, пронизанная кирпичным фонарным светом, падающим сквозь вышибленную дверь и дыру в стене.
И Юренев.
Он лежал на бетонном полу, судорожно вцепившись рукой в стойку металлического ограждения. Он никуда не хотел уходить. Он был в шортах и все в той же футболке.
«Оля была здесь».
И в том, что я видел все это уже не в первый раз, заключалось нечто бессмысленное и жестокое.
Год спустя
(Вместо эпилога)
Чтобы увидеть следующий пейзаж, необходимо сделать еще хотя бы шаг, и еще шаг, и еще…
Якутск, Тобольск, Москва, Томск, Питер…
Я знаю, как пахнет архивная пыль, как она въедается в пальцы, как першит в глотке. Я знаю, какой желтой и ломкой становится бумага, пролежавшая в забвении чуть ли не три века. Тысячи казачьих отписок, наказных грамот, скасок. «Царю государю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Русии…», «Царю государю и великому князю Алексею Михайловичу…»
Я научился читать тексты, размытые временем.
«…А которые служилые и торговые люди Ерасимко Анкудинов, Семейка Дежнев, а с ними девяносто человек с Колымы реки пошли на ту реку Погычю на семи кочах и про них языки сказывали: два коча де на море разбило, и наши де люди их побили, а достальные люди жили край моря и про них не знаем, живы ли оне или нет…»
И про них не знаем, живы ли оне или нет.
Тени на ночном окне.
Тени на окне несущегося поезда.
Тени на иллюминаторе самолета, пробивающегося сквозь лунную мглу.
Тени на пологе палатки, рисующие столь знакомое, столь недоступное памяти лицо.
И – боль.
Я беззвучно орал, я пытался восстать из бездны. Я задыхался, я умирал. Но пока мне везло: случайно услышав срывающиеся с моих губ стоны, меня будил сосед по купе, или сосед по креслу в самолете, или сосед по номеру в гостинице.