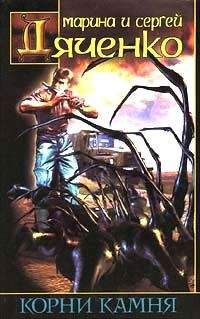Трагично ли это? Не более трагично, чем женитьба любимого сына на чужой для родителей невестке. Как Влад мечтал об этой премьере, как ждал ее годы и годы – и вот не чувствует ничего, кроме усталости. Надо бы сесть за компьютер и просмотреть написанное накануне – но нету сил. Нет желания, это печально…
– Почему бы нам не уехать сегодня, – сказала Анжела, не открывая глаз.
– Пресс-конференция, – отозвался Влад со стоном.
– Пошли подальше. Ты же не раб их. Это они хотят тебя слышать… А ты уже все сказал.
– Я подписал контракт.
– Ты в жизни не нарушил ни одного правила, – сказала Анжела. – Да? Ты всегда поступаешь согласно записанному в контракте?
Влад искоса взглянул на нее. Она лежала с закрытыми глазами, бледная, упрямая, демонстративно слепая.
Он не ответил. Поднялся, собираясь идти в душ.
– Почему я такая злая с самого утра? – удивленно пробормотала Анжела себе под нос. – Может быть, потому, что сегодня годовщина смерти Егорки Елистая?
Влад остановился посреди комнаты; переступил босыми ногами по прохладному паркетному полу. Поджал пальцы; помедлил и вернулся к Анжеле. Присел рядом, на край кровати.
– Я терпеть не могу самоубийц, – сказала Анжела. – Бедный Соник просто был в шоке, вот и все. Он не знал, что творит, когда резал себе руки. А Егорка, когда прыгал с балкона, все прекрасно знал. Он догадался про меня. Почему все умные мужики прямо-таки поведены на свободе?
– Не все.
– Влад, – очень тихо попросила Анжела. – Давай смотаемся с пресс-конференции. Я тебя очень прошу. Давай уедем… А?
* * *
Вокзал – толчея, табло, радиоголос из динамика, специфический запах – напоминал Владу об Анне. Теперь всегда при слове «вокзал» он будет вспоминать не бродячую юность проводника в плацкартном вагоне, а женщину, жадно вглядывающуюся в лица бывших и будущих пассажиров.
Вокзал.
Этот проводник – наглаженный, чистый, почтительный и благоухающий одеколоном – нисколько не походил на самого Влада двадцатилетней давности, в старом свитере под форменный мундиром, серого от недосыпа, угрюмого и неразговорчивого. Впрочем, и поезда его юности были другие. Каждый вагон был похож на барак, на коммуналку, на общежитие; далеко выдавались в проход чьи-то ноги в нечистых полосатых носках, гоняли беззаботные дети, рискуя получить порцию кипятка на голову (разнося чай, Влад брал по пять стаканов в каждую руку), кружилась в воздухе пыль из допотопных одеял и лезли перья из тощих подушек…
– А почему ты не любишь поезда? – спросила Анжела.
– Глупо тащиться по земле, когда можно летать, – уклончиво отозвался Влад.
Анжела вздохнула:
– А я пыталась работать проводницей. Только не в таком вагоне. Попроще, конечно… На меня жаловались пассажиры. Я была очень плохой проводницей. Ленивой, ну и грубой, наверное… Меня скоро выгнали.
– А я был хорошим, – медленно сказал Влад. – Они… пассажиры… угощали меня, всегда звали выпить с ними… Но я не пил на дежурстве.
Анжела оторвалась от созерцания перрона за чистым окном. Подняла на Влада округлившиеся, вопросительные глаза.
Он сел рядом. Помолчал.
– Почему ты мне раньше не сказала? – спросил Влад.
Анжела удивилась:
– Чего?
– Как ты каталась проводницей… Я не знал.
Анжела скептически поджала губы:
– Неужели ты всерьез думаешь, что много обо мне знаешь?
* * *
Анжела была единственным человеком, понимавшим Соника, и единственным человеком, по-настоящему нужным ему. Она была уверена в этой нужности десять лет назад – она не потеряла уверенности и теперь.
Она любила Соника. Его брат рядом с ними был лишним. Как некоторые мамаши трясутся над подросшими сыновьями – так и Соников братец напоминал такую вот мамашу, собственницу, «концентрированную» свекровь.
– …Да ладно, мы же не будем сейчас говорить о Фроле… А Соник был – солнышко. В два часа ночи мог разбудить, сказать – пойдем гулять, там полнолуние, звезды, сверчки… Нельзя в такую ночь спать… И я встаю, и мы идем. Или ни с того ни с сего на последние деньги купит билеты к морю. И едем… На набережной он садится и рисует мой портрет. И сразу к нему очередь из девушек и дам. Он пару часиков поработает, и на все эти деньги мы идем в ресторан… Вот так. А ночуем на той же набережной, у моря, на деревянных лежаках. И совершенно спокойно, и ничего не нужно, карманы пустые, душа умиротворенная… Вот это был Соник. Лучшие наши дни были, когда его еще не признавали…
Соник научил Анжелу многому. Рядом с ним ей хотелось прыгнуть выше головы – а он многократно признавался, что она оказывает на него точно такое же действие. Анжела, ни разу в жизни не бывавшая ни в театре, ни в музее (краеведческий, куда ее водили на экскурсию в медучилище, не в счет), – Анжела пристрастилась ходить с Соником по выставкам, премьерам и концертам. Это оказалось вовсе не так скучно, как она боялась вначале – наоборот, любая загогулина на холсте оживала после того, что о ней рассказывал Соник. И балетный спектакль, где, казалось бы, сплошная неразбериха на сцене, и какая-нибудь симфония, где на первый взгляд вообще нет сюжета – все это, оказывается, могло быть источником радости и удовольствия, и эту радость они делили поровну…
Они часами сидели тут же, в мастерской, вскипятив электрочайник, окуная в остывающий чай сухарики и печенье, говорили обо всем, то есть чаще Соник говорил, а Анжела жадно спрашивала; она, редко признававшая чье-то главенство, теперь радостно ощущала себя ученицей. И слушала, разинув глаза и развесив уши.
А Соник говорил, что это Анжела научила его видеть. Что это Анжела сделала его лучше, что из-за нее он наконец понял простую вещь, которая не всем в жизни дается, что она – рука, протянутая ему Богом, что только с ней у него есть будущее – да еще какое! На много сотен лет вперед!
Анжела перевела дыхание:
– …А потом началось: выставки, слава… Все хотели с ним выпить. Приобщиться. Он не мог отказать. А выпив… знаешь, у него, наверное, как-то замыкало в голове. Он пьяный был совершенно другой человек – жестокий… Мог ударить… Потом сам приходил в ужас. Но когда он очередной раз полез на меня с кулаками, и я ушла… Думала – один раз. Его «прикрутит», он позвонит, и все. Но не вышло… Один раз, другой раз, третий раз. Он стал понимать. Догадываться. И когда догадался… Его свобода была ему, оказывается, дороже меня. Брат подложил под него шлюху. Я простила бы ему! Я клянусь Влад, теперь, оглядываясь назад, я понимаю: простила бы ему эту шлюху. Простила! Только он не стал ждать.