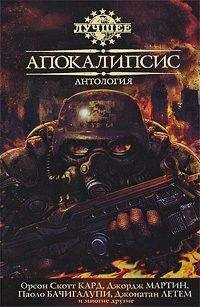Позднее, когда краха не произошло, пришли другие социологи, в защитных костюмах последней модели, чтобы выяснить, почему колонии не рухнули в положенное время. Все эти люди ушли неудовлетворенными. Они не нашли способов лечения, не выяснили происхождения болезни, не обнаружили ни сенсационных историй для газет, ни зрелища гибели, ни причин выживания.
Социологи продержались дольше остальных. Журналистам необходимы свежие, интересные сюжеты, а социологам просто нужно публиковаться. А кроме того, все культурные традиции говорили, что Внутри рано или поздно образуется несколько враждующих группировок. Лишите людей электричества (оно подорожало), муниципальной полиции (полицейские отказались жить Внутри), свободы покидать колонию, политического влияния, работы, скоростных автострад, кинотеатров, федеральных судей и государственных начальных школ, считали они — и получите беспредел, насилие и борьбу за выживание. Вся культура говорила в пользу этого. Взрывы бомб в бедных кварталах. "Повелитель Мух". Кабрини-Грин. [2] Вестерны. Воспоминания бывших заключенных. Бронкс. [3] Восточный Лос-Анджелес. [4] Томас Гоббс. Социологи знали, что будет.
Только ничего этого не произошло.
Социологи ждали. А мы здесь, Внутри, учились выращивать овощи и разводить кур, которые, как мы узнали, едят все подряд. Те из нас, кто умел обращаться с компьютерами, некоторое время, по-моему, лет десять, работали на настоящей работе в Интернете, пока оборудование, которое никто не заменял, окончательно не устарело. Бывшие учителя организовали занятия для детей, хотя программа, как мне кажется, с каждым годом становится все примитивнее: Рэчел и Дженни не блещут знаниями в области истории и естественных наук. Врачи лечили людей с помощью лекарств, пожертвованных корпорациями в обмен на налоговые льготы, и примерно лет через десять начали обучать желающих медицине. Какое-то время — вообще-то довольно долгое время — мы слушали радио и смотрели телевизор. Возможно, кто-то и сейчас его смотрит, если Снаружи нам жертвуют новые телевизоры.
В конце концов социологи вспомнили более старые модели существования в условиях лишений, дискриминации и изоляции от внешнего мира: еврейские гетто, общины французских гугенотов, фермы амишей. [5] Самодостаточные модели, инертные, но способные к выживанию. И пока ученые вспоминали, мы проводили розыгрыши товаров, обучали молодежь, распределяли еду из хранилищ среди тех, кто в ней нуждался, заменяли ломаную мебель другой ломаной мебелью, женились и рожали детей. Мы не платили налогов, не воевали, не обладали правом голоса, словом, не представляли собой ничего интересного. И спустя некоторое время — долгое время — посетители перестали навещать нас. Даже социологи.
Но вот передо мной молодой человек без санитарного костюма, карие глаза улыбаются из-под копны густых темных волос; он протягивает мне руку. Он не морщится, дотрагиваясь до клейкой кожи. И, кажется, не рассматривает кухонную мебель, чтобы потом описать ее: три стула, один — из пожертвований, имитация эпохи королевы Анны, один — сделанный Внутри, подлинный Джо Кляйншмидт; стол; дровяная печь; сверкающий новый буфет в восточном стиле; пластиковая раковина с ручным насосом, соединенная с трубой, по которой вода поступает Снаружи, из резервуара; деревянный ящик с пожертвованными дровами; на кусках прессованного дерева — клеймо "Дар Boise-Cascade"; [6] две восторженные, умные и любящие юные девушки, к которым лучше не пытаться относиться снисходительно, как к больным уродцам. Такое случалось — давно, но я это помню.
— Здравствуйте, миссис Пратт. Меня зовут Том Мак-Хейб. Спасибо за то, что согласились побеседовать со мной.
Я киваю:
— О чем же вы хотите поговорить, мистер Мак-Хейб? Вы журналист?
— Нет. Я врач.
Этого я не ожидала. Я также не ожидала увидеть внезапную судорогу, пробежавшую у него по лицу, прежде чем на нем снова возникла улыбка. Хотя напряжение и боль вполне естественны: войдя Внутрь, человек не может отсюда выйти. Интересно, где он мог подхватить болезнь. Насколько я могу припомнить, в нашу колонию давно не поступало новых зараженных. Может быть, по каким-то политическим соображениям власти отправляют их в другие колонии?
Мак-Хейб отвечает на мой взгляд:
— Я не болен, миссис Пратт.
— Тогда зачем же…
— Я пишу статью о течении болезни у тех, кто давно живет в колонии. Разумеется, для этого необходимо побывать Внутри, — объясняет он, и я сразу понимаю, что он лжет.
Рэчел и Дженни, разумеется, этого не понять. Они сидят справа и слева от него, словно беспокойные птички, и слушают.
— И как вы собираетесь опубликовать свою статью, когда она будет написана? — спрашиваю я.
— Я передам текст по радио, на коротких волнах, моим коллегам. — При этих словах он отводит взгляд.
— И эта статья стоит того, чтобы оказаться заключенным здесь навсегда?
— Как прогрессирует ваше заболевание? — начинает он, игнорируя мой вопрос. Он осматривает мое лицо, ладони, руки — пристальным профессиональным взглядом, который убеждает меня, что по крайней мере часть его истории — правда. Он врач. — Вы испытываете боль в пораженных участках?
— Нет.
— Наблюдаются ли функциональные нарушения или снижение активности, связанные с болезнью?
Рэчел и Дженни выглядят слегка озадаченными; он проверяет меня, хочет узнать, понимаю ли я терминологию. Нет.
— Не произошло ли за несколько последних лет каких-либо внешних изменений на старых пораженных участках кожи? Изменился ли цвет, плотность тканей, размер утолщенных краев?
— Нет.
— Не наблюдали ли вы каких-нибудь других симптомов, о которых я забыл упомянуть?
— Нет.
Мак-Хейб кивает и раскачивается на каблуках. Он хладнокровен для человека, которому вскоре суждено гораздо ближе познакомиться с этой болезнью. Я жду, что он скажет, зачем он здесь на самом деле. Молчание затягивается. Наконец Мак-Хейб произносит:
— Вы были независимым аудитором.
Одновременно с ним Рэчел спрашивает:
— Никто не хочет лимонада?
Мак-Хейб с радостью соглашается. Девушки, с облегчением поднявшись, наливают из-под крана холодную воду, открывают банку консервированных персиков и смешивают лимонад в коричневом пластиковом кувшине с глубокой вмятиной с одной стороны, там, где кувшин когда-то коснулся раскаленной печи.
— Да, — отвечаю я Мак-Хейбу. — Я была аудитором. И что?
— Теперь они не имеют права заниматься ревизиями.
— Аудиторы? Почему? Надежные столпы режима, — говорю я и понимаю, что прошло очень много времени с тех пор, как я употребляла подобные слова. Они имеют металлический привкус, как старая консервная банка.