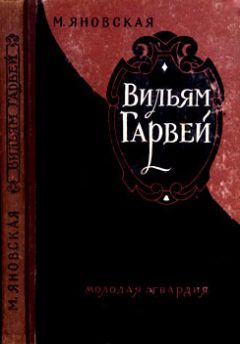Добрый старый Гарри Бейкер, приличный парень, ничего в нем худого нет, отменный компаньон — можно добавить, во всех отношениях — но, очевидно, совсем не тот, кто нужен Дорис… Или — Сильвии…
Или — Джоан… Или — Розмари…
— Гарри!
Я пробирался вдоль рваной волны изъязвленного металла, и крик Дорис чуть не заставил меня споткнуться об острый, как бритва, угол.
Я восстановил равновесие и обернулся: Дорис стояла, прижавшись к Доззену, и в позе ее ощущался явный испуг.
— Гарри, я что-то видела… — голос ее постепенно совсем затих, а потом постепенно немного окреп вновь. — Ох, нет, ничего я не видела, — она слабо, смущенно засмеялась. — Прости, это все девичьи нервы. Вот эта формация, справа от тебя, — на секунду она показалась мне живой. Я видела ее только краем глаза, это и сыграло со мной шуточку… — Дорис старалась говорить беспечно, но я чувствовал, насколько она потрясена.
Я посмотрел по сторонам, но ничего не сказал. Я старался избегать формулировок, но вместо меня облек в слова увиденное Доззен:
— Вон еще одно, — произнес он. А вон там еще несколько. Тик-втик зоопарк лунатика. Ими тут все усыпано.
Так оно и было. И сущность явления определить было невозможно — ни тогда, ни потом.
Звери крались вокруг нас — замороженные навеки, они тем не менее подкрадывались к нам. Незаконченные, уродливые, невероятно искаженные, они скалили на нас зубы и тянули когти — и мгновенно превращались в груды искореженного металла, стоило посмотреть на них в упор. Все время мы видели их по сторонам и чуть сзади — причем не только зверей, но также и города, ими опустошенные, селения, уничтоженные их нашествием, выпотрошенные ими дома, улицы, которые они усеяли остатками своего пиршества. Мы проходили меж них, а они следовали за нами, видимые лишь на самом краю поля зрения, а стоило нам повернуться, чтобы рассмотреть их получше — и они враз исчезали, делались совершенно незаметными там, куда падал взгляд.
— Обычный обман зрения, — неуверенно проговорил Доззен.
— Да, — поддержал я, продолжая прокладывать путь сквозь их строй.
— Ужасное место! — вздохнула Дорис.
Таким оно и было.
— Смотрите! — воскликнул Доззен.
Среди обломков уцелела целая секция. На ее обшивке были заметны свежие следы сварки. Может, в момент катастрофы она и получила повреждения, но сейчас герметичность была восстановлена. Рядом возвышалась сложенная из камней пирамидка, завершающаяся сваренными из каких-то обломков крестом.
Кто из них? — подумал я. — Кто из них? И рванулся вперед, карабкаясь через груды покореженного искаженного металла и задыхаясь от спешки. Добежав до подножия пирамидки, я упал у подножия креста, чтобы прочесть едва видную, нацарапанную чем-то надпись: Лью Гарвей, исследователь. Соскользнув с пирамидки в сопровождении целой лавины обломков, я бросился к секции и замолотил в запертый люк.
— Нора! Нора! Нора! — кричал я, пока не подошли Дорис и Доззен и не оттащили меня.
Пока они вскрывали люк, я сидел, отвернувшись. Они заглянули внутрь — и увидели ее, лежащей в скафандре. Мне было бы не по силам ни то, ни другое. Войдя, они осторожно подняли ее и уложили на койку — скафандр был обесточен, лицевой щиток покрылся изнутри инеем, скафандр спался — почти совсем, однако для пустого был слишком тяжел, хоть и мелькнула у меня дурацкая надежда.
Рядом с местом, где упала Нора, мы нашли магнитофон, и тут же ondjk~whkh его к нашим наушникам. Услышав ее голос, я онемел.
Последний рапорт, — с трудом, совершенно изнеможенным голосом говорила Нора. — Запасы энергии быстро иссякают. Сейчас я в скафандре, и когда его аккумуляторы сядут, наступит конец. Я не знаю, где мы находимся. Но чем бы ни оказался этот планетоид, в этот сектор его просто занесло. Понятия не имею, какую цель могла преследовать разумная раса, создавая такую машину, — она на секунду смолкла, и вздох ее был похож на всхлип.
Я представил ее себе — задыхающуюся, замерзшую, в этом разбитом при падении отсеке — и опять вспомнил ту ночь, когда она впервые танцевала со мной.
Изменения снаружи все еще продолжаются, — вновь заговорила Нора, но уже значительно медленнее. — Думаю, скоро прекратятся совсем. Я вижу, как они силятся, силятся завершить себя, им это не удается, и они начинают сызнова. Но с каждым разом все медленнее, следующая попытка каждый раз слабее предыдущей. Хотела бы я понять, что побуждает их к этому… И еще я хотела бы, чтобы здесь оказался Лью, — задумчиво проговорила она.
Сомневаться в том, что надежды у нее вовсе не осталось, было уже нельзя. Свой отчет она продолжала для более великого, нежели наш институт.
Я любила тебя, Лью — тихо и безмятежно сказала Нора, — пусть даже ты мне не верил. Пусть даже временами ты меня ненавидел. Я любила тебя. И если я не смогла доказать тебе этого единственно возможным путем — все равно, я любила тебя, — голос ее заметно слабел. — Надеюсь, мы с тобой еще встретимся, и тогда первыми словами, которые я скажу тебе, будут: “Я люблю тебя!”.
И это было все. Она умерла. Дорис выключила магнитофон.
Последовало долгое молчание. Первым нарушил его Доззен.
— Вряд ли кому-нибудь еще стоит это слушать, — сказал он со вздохом. — Все равно ничего не понять. Может, сохранились еще ранние записи, когда она еще могла ясно мыслить?
— Возможно, — согласился я.
Дорис внимательно наблюдала за мной. Я посмотрел на нее и подумал, что был не таким уж умником, как я считал — во всяком случае не настолько, чтобы скрыть от женщин то, что сумел сохранить в тайне от себя самого.
Подойдя к койке, я поднял Нору на руки и вынес наружу. Может, Доззен и попытался последовать за мной, но если так, то Дорис sdepf`k` его. Я должен был сделать это один.
Рядом с первой я воздвиг новую пирамидку, с помощью штатных инструментов скафандра сварил крест и вырезал на нем ее имя. Из поверхности этого машинного мира я повыдергивал все комки зубастого металла, чтобы сделать последнее ложе Норы поудобнее, а потом открыл лицевой щиток ее шлема — пусть инертная атмосфера проникнет внутрь и вымоет последние остатки углекислого газа и кислорода, тогда в этом вечном холоде Нора останется навеки прекрасной.
Наконец, все было сделано, и я вернулся к отсеку. Дорис ждала меня. Взяв меня под руку, она прикоснулась своим шлемом к моему, чтобы Доззену наш разговор не был слышен.
— Гарри, — сказала она, — самые женственные женщины — это чаще всего те…
— Кто совсем не женщины?
— Очень жестоко сказано, — заметила она тихо. — Не знаю, может, и Лью так думал? Может, он вконец измучил себя потому, что выбрал самую жесткую точку зрения? Ты знал Нору — она была теплым, дружелюбным, удивительным человеком. И кто теперь вправе сказать, что могло или не могло случиться, когда она еще только становилась женщиной? Если Лью считал ее олицетворением лжи, то должен был догадаться, что она лжет и себе. Будь он к ней подобрее…