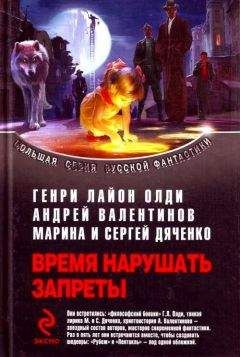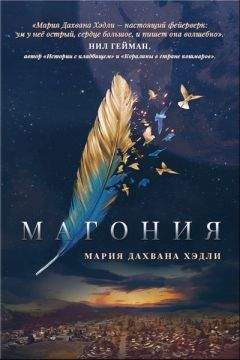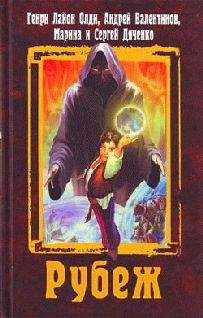Те, что стояли на площади, разом обернулись. Хмурой решимостью повеяло на Гриня, решимостью, отчаянием и злобой:
– Отойди, чумак!
– Отойди, а то будет тебе проклятье… дом спалим – с сумой пойдешь…
– Нового недорода захотел?! Чумы захотел, да?!
Поначалу собравшиеся показались Гриню безликой темной толпой – но уже через минуту он увидел и Василька с отцом, и Колгана, и Матню, и Касьяна с братьями, и всех соседей-мужиков… Баб не было. Ни одной. Не бабское это дело.
– Не мучьте дите!
– Зачем оно тебе надо, чумак?! Твое, что ли? Поперек горла тебе и всем… чортово отродье, вражье зелье! Ну что тебе надо?!
Гринь остановился.
Зря пришел сюда. Ох, зря; на одной половинке весов и Оксана, и… все, а что на другой?! Зря только лечил от поноса… зря молоком поил, зря на руки брал…
– В костер бросите? – спросил он шепотом, ни к кому не обращаясь.
– В какой костер?! – удивился оказавшийся рядом сосед. – Читать надо, пока не замолчит. Беса гнать… Это не дите орет – это бес в нем.
Младенец зашелся новым криком; Гринь покачнулся, схватил ртом морозный воздух – и, не размахиваясь, ударил соседа в челюсть.
Хороший был кинжал. Дядька Пацюк сам его для Гриня выбрал, посоветовал денег не жалеть. Кривой кинжал, на лету волос перерубает. Пацюк же и научил Гриня приемам – и пригодилась наука, ох как пригодилась, особенно весной, когда разбойников стало больше, чем ворон.
– Не подходи! Убью!
Дьяк пятился, уронив свою книгу на снег. Нехорошо улыбался Матня, хмурились Касьяновы братья, и везде, где хватало света факелов, блестели яростные глаза.
– Не подходи!..
Гринь набросил на младенца свою свитку. Тот замолчал, как по команде; люди зароптали:
– Бес…
– Чует… бес…
– И этот уже бесами забран!..
– Чортов пасынок…
Матня поудобнее взял факел. Пошел на Гриня боком, отведя факел чуть в сторону; его одернули. Отец велел вернуться – Матня оскалился и попятился назад.
Поблескивал кривой кинжал. Мужикам постарше доводилось видеть такие клинки – и по тому, как Гринь держал его, ясно становилось, что хлопец не в бабкином сундуке отыскал оружие. Что хлопец тот еще.
– Камнями его, – сказали из задних рядов.
– Тихо, – поп шагнул наперед. – Гриня, уйди. На исповедь придешь, замолишь… Уйди. Не то худо будет, слышишь, Гриня?!
– Не дам дите! – крикнул Гринь срывающимся голосом. – Нечего мучить! Своих вон рожайте и мучьте…
Попа оттеснили. Мужики наклонялись, искали под снегом камни; камней под заборами было в избытке.
– Забьем обоих, – хрипло сказал Матня. – Отойди от пащенка, коли жить не надоело!
Гринь проглотил слюну.
А чего терять-то? Всему пропадать! Оксаны не видать больше. В отцовской хате не жить. Только в проруби топиться – так лучше в бою, как чумак, как мужчина…
Матня первым кинул камень – Гринь увернулся. Зато следующий камень метил в младенца – Гринь отбил его кулаком, и рука сразу же онемела.
Потом камень угодил ему между лопаток.
Потом – в плечо.
Потом одновременно в спину, в колено и в грудь. Потом в лоб – Гринь зашатался, но устоял. Кинжал был бесполезен – мужики держались широким кольцом. Гринь склонился над младенцем, прикрывая его собой…
И вдруг стало светло.
– Что здесь происходит?
Камни больше не летели. Гринь поднял голову.
– ЧТО ЗДЕСЬ ПРОИСХОДИТ?
В свете новых, сильных факелов на толпу смотрели четверо. Первый восседал на огромной белой лошади, закованный в невиданную гибкую броню, в руках его был хлыст, а у пояса – сверкающий меч; двое его спутников отставали на полкорпуса, один в черном, заросший бородой до самых бровей, страшный, как в детском кошмарном сне, второй в зеленом, белолицый, с надменной усмешкой и тоже с плетью в руках.
И женщина. Такими обычно представляют ведьм – чернявая, с глазами как уголья, да еще в мужской одежде.
Мужики побежали.
Они бежали молча, падая в темноте и наступая на упавших; дьяк убежал первым, и книжка его с экзорцизмами так и осталась валяться в снегу. Поп спрятался в церкви и запер за собой дверь.
Гринь громко хлюпнул носом. Втянул в себя кровь.
Младенец заплакал. Сперва неуверенно, потом все громче.
Часть вторая
Девица и консул
Здесь магнолии не росли.
У него не было сада, не было дома с колоннами розового мрамора. Няни не было тоже. Маленькая хибарка на окраине Умани, вишневое дерево у входа, единственный лапсердак с заплатками на локтях, доставшийся ему от щедрого дяди Эли…
– …Ваш сын станет великим учителем, уважаемый ребе Иосиф! Может быть, даже наставным равом в самом Кракове! Хотел бы я, чтобы мои великовозрастные балбесы понимали Тору хоть вполовину так же, как и он. А ведь вашему сыну, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, только двенадцать!..
Ему действительно недавно исполнилось двенадцать, когда проклятый Зализняк ворвался в Умань.
Отец не верил – и отказался бежать. А потом стало поздно. Семья успела выбраться из северных ворот, но только для того, чтобы наткнуться на очередную гайдамацкую ватагу, – люди Зализняка спешили в горящий, гибнущий город.
– …Хлопцы! Глянь! Так то ж жиды! А ну, робы грязь!..
Отцу повезло – он упал сразу под ударами шабли. Повезло и матери – ее проткнули острой косой. И Лев Акаем, жених сестренки старшей, погиб без мучений – бросился на врагов и упал бездыханным.
Ему повезло меньше – ему, сестрам, братьям.
Лея, младшая, умерла быстро – уже под третьим или четвертым ублюдком, терзавшим ее юное тело. А Рахиль жила долго и все кричала, кричала… кричала.
Пока одни убивали сестер, другие разжигали огонь. Дрова разгорались плохо, недавно прошел дождь…
– А ну, говорите, жидята, где ваш батька червонцы запрятал?!
Голые ноги – в костер.
Страшный дух горящей плоти.
И крик… Сначала умер Ицык, самый младший, затем – Шлема…
Наконец замолчала Рахиль – страшная, непохожая на себя. Кто-то взмахнул шаблей, поднял ее голову, насадил на пику. На него взглянули широко раскрытые пустые глаза…
Ухмыляющиеся рожи подступили ближе, кто-то плюнул в лицо.