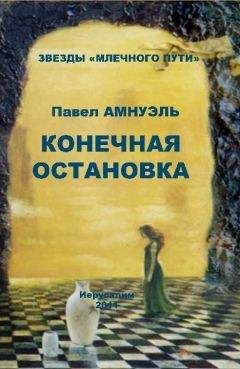На площади за зданием Королевского колледжа десятка два молодых людей – студенты, конечно, – растягивали транспаранты. Алкин разглядел слова «протестуем» и «Ирак», дальше читать не стал, все и так было понятно. Дайте Ираку самому решить свою судьбу. А если страна на это не способна? Если начнется хаос, который распространится на весь мир, на добрую старую Англию, в том числе?
Абсолютный антропный принцип: человечество выживет, выйдет в космос и овладеет энергией Вселенной, это неизбежно. Допустимо ли, в таком случае, любое политическое решение, даже если оно кажется глупым, поспешным и просто убийственным? Ведь слепая, но подчиняющаяся физическим законам природа не позволит нам угробить себя окончательно. Нелепо протестовать против войны в Ираке – когда это окажется необходимо для сохранения разумной жизни, война прекратится, появятся силы, которые сделают то, что потребует закон природы.
У человечества нет свободы воли?
Есть, конечно. Мы не свободны только в одном – не можем погубить себя. Слишком много вложила природа в этот проект. Мы пройдем свой путь до конца. Более того. Когда Вселенная угаснет и станет не способна к развитию, мы уйдем в другую вселенную-фермион, где еще не возникла жизнь. И там мы опять пройдем путь от начала до конца. Будет ли новый путь таким же, как наш нынешний – с той же биологической средой, с той же историей, с такими же или, может, чуть иными Чингиз-ханом, Гитлером и Сталиным? И опять родится Хэмлин, способный понять, как устроена Вселенная, и Сара тоже будет опять, и он, Алкин… Может, в другой вселенной он все-таки поступит иначе, чем здесь и сейчас? Сделает что-то, чтобы быть с Сарой, а не плестись под моросящим холодным дождиком на семинар, чтобы просидеть там молча битых два часа и не решиться сказать: господа, мой абсолютный антропный принцип вместе с идеей вселенной-фермиона и открытием темной энергии доказывают…
Доказывают ли?
Пока не проведен решающий эксперимент, нет и доказательства.
Алкин свернул с Мэдингли-роуд на обсерваторскую подъездную аллею и пошел вдоль забора, машинально пересчитывая прутья высокой решетки, которую летом обвивал плющ, а сейчас казалось, что двор отделен от улицы колючей проволокой, о которой пел Галич в песне, въевшейся, когда он был на втором, кажется, курсе, в сознание настолько, что он не мог избавиться от нее целый месяц, все время бормотал под нос: «а продукция наша лучшая»… Что его волновало тогда? Он уже не помнил. Была середина девяностых, обо всем можно было говорить и, тем более, думать. Почему он думал о колючей проволоке?
И почему этот образ возник сейчас – тоненькие переплетенные стебельки лишенного листьев плюща не так уж и похожи были на злую, ощетинившуюся иглами, металлическую проволоку…
Возникла странная мысль, не имевшая, вроде бы, никакой причины явиться из подсознания, где ей было самое место: это моя колючая проволока, это я за ней, как в клетке, и не могу сделать лишнего движения, чтобы оно не отозвалось болью. Я прижимаю руки к груди, чтобы не касаться колючек, и сдерживаю мысли, чтобы не поцарапать душу. И все мы так, потому что наша внутренняя несвобода не позволяет человечеству погибнуть, но не дает и развиваться так быстро, как это было бы возможно…
Смутное беспокойство возникло, когда Алкин подошел к скульптуре у входа в административное здание. Блестящие конусы представились глубокими глазницами, из которых капали слезы дождя. Алкину показалось, будто облако невидимого газа тянулось из раструбов, вызывая желание всмотреться, прислушаться…
Сара.
Неужели он не может заставить себя не думать о ней?
Телефон почти неслышно заиграл неизменного Моцарта, и Алкин потянул аппарат из бокового кармана, прикрывая его ладонями от мороси. Успел заметить на дисплее: «3 пропущенных звонка». А он и не слышал. Шел, задумавшись…
– Алекс!
Сара. Это она звонила?
– Да-да!
– Алекс, почему вы не отвечаете, я уже думала, что вы не хотите со мной разговаривать. Обиделись? Пожалуйста, не надо.
– Я совсем не…
Странный шум был в трубке. Пронзительные звуки и гул приближались и удалялись, взвыла и пропала вдали сирена – то ли полицейской, то ли «скорой», Алкин так и не научился их отличать. Что-то взревело чуть ли не над самым ухом, и только тогда он понял, что Сара звонит из машины.
– Алекс, я всю ночь думала об этом старике, Гаррисоне. И о Хэмлине. Алекс, мне кажется, я поняла, почему так получилось. То есть, почему Хэмлин вроде бы умер от одного, а потом оказалось… Это не легенда, а на самом деле.
– Я знаю, Сара, – сказал Алкин, крепко прижимая трубку к уху. Дождь припустил, и он спрятался под козырьком здания. Из холла ему подавал знаки охранник, сегодня дежурил Дэн, грузный стареющий мужчина, неизменно – вот уже несколько месяцев – встречавший Алкина одним и тем же вопросом: «У вас в России легко ли развестись?» Почему-то проблема развода интересовала его гораздо больше брака, хотя, как было известно Алкину, женат Дэн не был ни разу. Охранник махал рукой: входи, мол, что ты под дождем мокнешь? Но Алкин почему-то не мог сделать ни одного лишнего движения, будто от этого зависело, услышит ли он, что скажет Сара. Она, конечно, знает, что документов в архиве Скотланд-Ярда больше нет, Бакли не мог не сказать…
– Подождите, Алекс, я поверну… Да, я говорила, это не легенда…
– Я знаю. Это не легенда. Так проявили себя квантовые эффекты. Принцип неопределенности. Потому что…
– …Он просто хотел жить, не думал, что так все пойдет, этот его решающий эксперимент, вы меня слышите, Алекс, они совсем разные люди, я говорю о Хэмлине и Гаррисоне…
Она не слышала, что он сказал? Или не слушала?
– Мэт Гаррисон – прагматик, он взвешивает каждое свое слово и поступок…
– Сара!
– …и потому ему удалось прожить так долго, он поверил, да, но пользовался энергией экономно и только по делу…
– Сара, вы меня слышите? Где вы сейчас? Куда едете?
– …а Хэмлин был романтиком, иначе ему эта идея не пришла бы в голову, он даже, наверно, был немного сумасшедшим, как все гении…
– Сара!
Что-то надвигалось, что-то уже отделяло Алкина от Сары. Он слышал ее, он ее даже чувствовал, его руки лежали на рулевом колесе, дорога летела под колеса вместе с налипшими на асфальт светлыми полосками фар, стекло вдруг залилось невесть откуда взявшейся лавиной воды; здесь дождь уже несколько минут, а там, где Сара, только начался, дорога сразу исчезла, машину повело, и Алкин не мог сказать, в какую сторону. Вправо? Влево? Яркий свет ударил в глаза. Сара ничего больше не говорила, молчание стало таким жутким, что Алкин закричал и попытался… нет, он ничего не пытался сделать, он не мог водить машину, как-то еще в университете начал учиться, но бросил и теперь только мог расширенными до размеров Вселенной глазами смотреть, нет, не смотреть, а чувствовать, нет, даже не чувствовать, а воспринимать глубинными рецепторами, как Сара пытается удержать руль, визжит резина, что-то впереди высверкивает и гаснет, нога вжимается в педаль тормоза, и машину заносит, нельзя тормозить, но Сара еще сильнее жмет на педаль, Господи, никаких мыслей, одни инстинкты, стекло распахивается настежь, и в салон вливаются тонны воды с неба, Алкин захлебывается, тонет, что же это, в самом-то деле, как можно утонуть в дожде посреди шоссе в самом центре Англии, он ничего не может сделать, почему он не получил права, сейчас он…