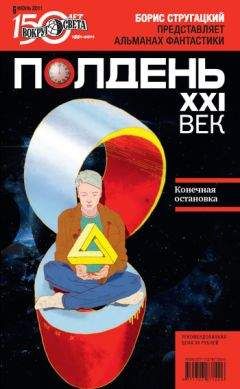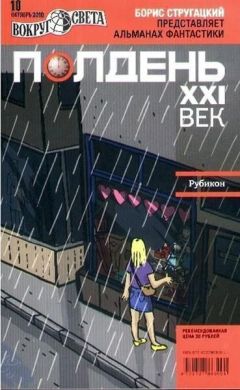– Все, с меня хватит. Извольте, дорогой Иван Федорович, перейти на свой корабль. Наши эксперименты почти завершены, осталась рутина. Копию карты и отчета отправлю по шестому служебному каналу. Fischkopf[3], это невыносимо.
Не встретив сопротивления и возражений, Клоц припомнил все проступки коллеги за тридцать дней общежития, начиная с последней выходки с Фокси. Он сильно нервничал, откинув голову назад, трясся, редкие седые волосы вздрагивали. От переизбытка чувств Клоц стал заикаться и перемежать английские слова с немецкими. Он все больше воспламенялся, чувство справедливой ярости кипело и росло, как верховой пожар при сильном ветре. Его лицо с аристократическими чертами искривилось. Он вцепился в край стола, словно боялся не утерпеть и вцепиться в горло ненавистному ему человеку.
Иван Федорович жевал бутерброд, запивая чаем, который заваривал в гильзе термального колокола, отсыпая понемногу из бумажного кулька, принесенного контрабандой на «Союз».
– У вас axel schweis[4], фу, – наконец закончил Клоц речь, тяжело дыша, глядя на Костылева слезливыми широко раскрытыми глазами.
– Что ты взбеленился, Герман…
– И не называй меня Герман, у меня есть… – Клоц затряс пальцем, его лицо побагровело еще сильнее.
– Дорогой Клоц, я не собираюсь с вами ругаться и спорить.
Кто-то умный сказал: «Спор начинается с недоразумения. Переходит в ожесточение и заканчивается остервенением». Агентство поставило нам задачи, определило цели, давайте лучше сконцентрируемся на работе, а не на разных там финтифлюшках.
– Спор? Я с вами вовсе не спорю, уважаемый Ekelbratsche[5], я вам открытым текстом говорю – не хочу вас больше видеть. И никакие это не финтифлюшки.
– Ой, – Костылев скривил лицо, словно съел лимон, отложил недоеденный бутерброд и встал из-за стола, – ты, Герман, мертвого поднимешь из могилы.
– Не называй…
– Знаю, знаю, чистоплюй Херман, я ухожу. А ты переведи дух и выпей валерьяночки.
– Да, вот так, и не забудь взять трусы с опреснителя.
– Пошел ты, – буркнул напоследок Костылев, закрыл блокнот и с испорченным настроением покинул столовую.
Его никто не провожал, кроме Фокси с полотером наготове.
Перед тем как сомкнулись створки лифта, Костылев смачно плюнул на пол и помахал в камеру. Клоц фыркнул и отвернулся от экрана.
– Geh deiner Wege[6], – пробормотал он.
«Союз» отстыковался и ушел в прыжок.
В час ночи следующего дня станцию крепко встряхнуло, вспыхнули аварийные лампы, все, что лежало незакрепленное, попадало, в том числе и Клоц с кровати. Первая мысль: «Столкновение с метеоритом» – ввергла в шок, цифры на мониторах выплясывали dance allemande[7], но после краткого общения с бортовым компьютером и проверкой системы живучести станции Клоц немного успокоился.
Он запросил центр управления полетом. Ответа не последовало. Еще около часа возился с системой связи, пытаясь ее восстановить, прежде чем убедился, что оборудование исправно.
В тщетных попытках он перепробовал все возможные каналы, в том числе и аварийный. Земля молчала.
Ничего не понимая, сбитый с толку, Клоц встал с кресла и, вытирая испарину со лба, подошел к иллюминатору. Он не сразу заметил, что с небосвода исчезла планета.
Долго не мог осмыслить происшедшее, тысячу раз проверял координаты и выдвигал множество различных версий. Луна, Сатурн, Юпитер и прочие планеты Солнечной системы были на месте, не хватало только одной – Земли.
Когда миновал первый затяжной шквал осознания жестокой действительности, Клоц начал судорожно соображать, что же могло произойти? Почему нет Земли, и как ему жить дальше?
Сутки напролет просматривал на мониторе научные трактаты и статьи, выискивая причины и вырабатывая версии, потом в задумчивости бродил по коридорам станции, вдруг сразу ставшей пустынной, неуютной. Коммуникационная система в автоматическом режиме вызывала базу и подавала сигнал бедствия.
На панорамном иллюминаторе Клоц закрепил голограмму, где виртуальная планета вновь занимала свое место в системе.
Забросил научную работу (кому теперь это надо), часами слонялся по станции, раз сто за день проверял данные сканеров и пеленгаторов. Подолгу слушал космос, нацепив наушники, неподвижно сидя в кресле пилота.
Однажды он подошел к зеркалу в стерилизационном боксе.
Из отражающего элемента на него глянуло заросшее, худое лицо с воспаленными глазами. Глядя на бороду, Клоц подумал о русском и со всех ног кинулся в рубку. От радости он не мог вспомнить его имя.
Оказавшись внутри, дрожащими руками набрал запрос о траектории прыжка «Союза» и его позывные. Сердце трепыхалось в томительном волнении, пальцы с изгрызенными ногтями нервно сжимали микрофон.
– Ну, давай чертов Иван, свинья ты эдакая, отзовись, – бубнил Клоц, вслушиваясь в трескотню космоса.
Ничего. «Союз» ушел из квадрата после серии прыжков в неизвестном направлении.
* * *
После взрыва Костылев попытался связаться со станцией. Но апокалипсис застал его на активной фазе прыжка и изменил траекторию. Затерявшись в космосе, физик-ядерщик не мог определить свои координаты. Исчезновение Земли повергло его в шок.
Он достал припрятанную для подобного случая бутылку водки и выпил, но от этого легче не стало.
Костылев подолгу сидел в рубке, вглядывался в кристалл холодного космоса и курил. Он вспомнил чью-то шутку: «Я не боюсь смерти, я просто не хочу при этом присутствовать», – и она ему понравилась. Какова будет его смерть, найдет ли его душа дорогу к своим и не сойдет ли он с ума, прежде чем преставиться.
Иван Федорович часто вспоминал семью, которой не стало.
Как и многие миллионы людей, они исчезли в одночасье. Вспоминал город, друзей, знакомых… Вся его жизнь превратилась в сплошной поток воспоминаний с берегами из тоски и скорби.
Он развернул огромный парус из сплава легких и крепких металлов, улавливая космический ветер, направил корабль по спирали, с каждым витком расширяя зону поиска. Год за годом он прочесывал космическое пространство, вероятность оказаться на координатах Земли была ничтожно мала, но что еще ему оставалось делать?
Жутко испугался, когда однажды корабль тряхнуло и заскрежетали стыковочные замки. Из шлюза в облаке дезинфицирующего пара вышло сгорбленное существо с впалой грудью, с воспаленным взглядом. Сердце Костылева на миг остановилось, больно ударило в ребра, защемило и, словно маховик, со скрипом провернувший вкладыши, забилось снова. Он узнал Клоца Хермана.
* * *
При виде голограммы, прикрепленной к панорамному иллюминатору, у Ивана Федоровича на глазах навернулись слезы. Он долго стоял у стеклянной стены и всхлипывал, глядя на родную Землю.