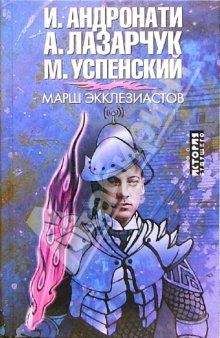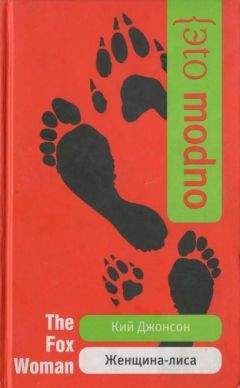— Господи Иисусе сладчайший, — сказал монах. — Я не прошу тебя просветить и обратить этого магометанина. Тут уж не до хорошего. Я всего лишь прошу вернуть ему разум!
Сулейман из Кордовы услышал, но не обиделся и с карачек не встал:
— Ты, дорогой брат, хоть в игре и ловок, но не знаешь здешних уловок. Давай, рядом вставай, да погромче лай, мне помогай.
— Зачем? — выкатил глаза брат Маркольфо, невольно опускаясь на четвереньки.
— Затем, что пёс и жильё охраняет, и караван сопровождает. Если поблизости есть жильё, а при нём собака — мы услышим её. То есть она нас услышит сперва, понял, кафирская голова? Она откликнется, а ты знай иди на её лай…
— Никогда бы не додумался, — сказал монах и не тоненько залаял, но нежданно густым басищем провещился, подражая замечательным псам из обители святого Бернара, откуда до Абруццо — два перевала.
…Судьба, судьба — жернов либо веретено!
Это очень опасный склон, но если вы всё-таки сорвётесь, не забудьте посмотреть направо: редкой красоты вид открывается…
Д. Х. Шварц «По следу орла»
— Нойда, Нойдушка, — сказала Аннушка где-то рядом. — Девочка моя, да ты и вправду шаманка…
Николай Степанович огляделся. Вверху было небо, справа и слева — ветхие, но оттого не менее драгоценные ковры. В головах — стена, на которой с трудом угадывалась какая-то декоративная роспись. Со стороны ног пространство замыкал синий в звёздах занавес.
— Аня, — позвал Николай Степанович.
Занавес отодвинулся, возникло Аннушкино лицо — осунувшееся, но радостное.
— Ой! — воскликнула она. — Ты проснулся. Ты наконец проснулся, я уже замучилась ждать… Как ты себя чувствуешь?
— По-моему, всё как надо, — сказал Николай Степанович. — Я что, долго?..
— Долго, — кивнула Аннушка, на мгновение омрачившись, и Николай Степанович почти физически почувствовал, как она загоняет внутрь тревогу и страх. Которые уже, наверное, перестали быть актуальны, но всё же, всё же… — Я боялась, — призналась она. — Ты был совсем… совсем тяжёлый.
— Ну, не два же года, нет? Надеюсь, вы тут не стали подыскивать подходящий мавзолей? — спросил он, не в силах сдержать дурашливость.
Аннушка покачала головой.
— Неделю, — сказала она. — Думаю, что это была неделя.
— Понял… — Николай Степанович потёр подбородок. Подбородок был почти гладок. Обычно он брился на ночь, так что к обеду — то есть к обеду неделю назад! — кожа обретала некоторую шершавость. — И что у нас нового за эту неделю?
— Ребята всё расскажут. Но ничего принципиально нового. А вот Нойда принесла — так принесла! Можно сказать, уела всех.
— Что принесла?
— Смотри!
И она подала Николаю Степановичу то, что держала в руке.
Это был свиток. Самый настоящий папирусный свиток. И, хотя папирус был пепельно-серого цвета — как будто многие годы пролежал на полке в грязной чадной кухне, впитывая жир и покрываясь пылью, — но Николай Степанович от прикосновения к нему почувствовал будто бы лёгкий удар током. Нойда сидела и, наклонив голову, смотрела на него. Рот её был приоткрыт, бледно-розовый язык дразнился. Нойда выражала радость. Она походила сейчас на полярную панду: вся белая, и ярко-голубые глаза в чёрных очках.
Папирус был ветхим, но не настолько, чтобы крошиться под пальцами. И вообще это был не вполне папирус. Похож, да, но явно из какого-то другого растения.
Николай Степанович долго всматривался в текст, потом — перевернул папирус…
— Я никогда в жизни не видел этого алфавита, — сказал он наконец. — Там есть и другие книги? — спросил он Нойду.
Та кивнула.
Первая экспедиция сорвалась: Аннушка, спускаясь по лестнице, подвернула ногу. Перелома вроде бы не было, но ходить она не могла. Если бы дело происходило дома, Николай Степанович не стал бы беспокоиться: через два-три дня ксерион сделал бы своё дело, затянув даже и небольшой перелом. Как пойдут дела здесь, в месте, заклятом на соль, он просто не знал; сам он, выходит, провалялся неделю, просто стукнувшись головой. Но, может быть, не просто стукнувшись, а разбередив довоенную ещё, но практически смертельную травму, с которой даже он пролежал в неподвижности полных два года? Опять ничего нельзя было сказать наверняка; это раздражало; так или иначе, требовалось накапливать и накапливать опыт пребывания здесь.
На следующий день отправились втроём: сам Николай Степанович, Костя и Шаддам. Армен и Толик оставлены были на охране, причём Армену строго-настрого запрещалось отходить от дома больше чем на десять шагов…
— И, что характерно, нигде нет эха, — сказал Костя.
Николай Степанович для проверки хлопнул в ладоши. Да. Хлопок был отчётлив, хотя, может быть, и глуховат — но звук обратно не вернулся. Хотя в таком месте не вернуться просто не мог.
Это было первое помещение здесь, в котором не просвечивало небо. Высокие, метров шесть-семь, сводчатые потолки из плотно подогнанных каменных блоков оказались, должно быть, сильнее заклятия. Возможно, роль сыграло и то, что это был полуподвал: из арочного нефа, обычного в этом городе входа в дома, лестница вела не вверх, а вниз — двадцать шесть ступеней; сверху же стояли ещё два этажа. А может быть, потому, что в верхушках сводов и так были проделаны отверстия, световые колодцы, в которые проникал рассеянный мягкий свет.
Помещение имело в длину не меньше тридцати метров, в ширину — наверное, пять. Вдоль стен рядами стояли деревянные шкафы в два человеческих роста, закрытые и распахнутые. Весь пол усеян был свитками, инкунабулами, просто смятыми исписанными листами. По обе стороны лестницы громоздились огромные кучи книг…
Прикосновение(1928 год, апрель)
Есть такой простой способ вскрывать сейфы с номерными замками: берёте мелкий напильник и стачиваете себе на кончиках пальцев руки — всю кожу. Совсем, начисто. И этой рукой как бы слушаете замок. Малейший щелчок механизма, не уловимый никаким стетоскопом, отдаётся в обнажённых нервных окончаниях вспышкой боли.
Вот и я, лежащий посреди пустого дома и прислушивающийся к дрожанию и теплоте его стен и перекрытий, к звукам и запахам распада кошачьего трупика в подвале, к шагам тараканов и чиханию мышат, был сейчас обнажённым нервным окончанием. Поэтому звук шагов по лестнице — ещё, наверное, с третьего этажа на второй — стал для меня ударом штыка.
Не думаю, что я заорал — но не заорал я только потому, что мой собственный голос меня бы добил, я это знал — и испугался. Надо было быстро скинуть с себя состояние сверхвосприимчивости, вернуться в нормальный мир громких голосов и славных дел…