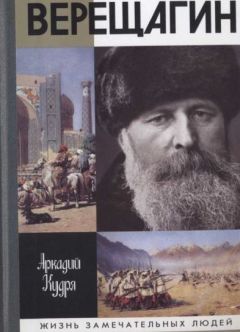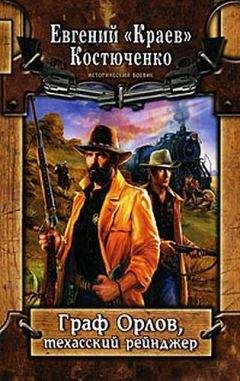Страх действительно активизировал все силы Верещагина – его организм в сильнейшем возбуждении, голова, руки, ноги – все хотят что-то делать. Он бегает по своей комнате, натыкаясь на стены, закуривает и тут же бросает папиросу, включает магнитофон и тут же выключает – при чем тут музыка! Ему совсем не хочется умирать, вот в чем дело! Правда, врач сказал: эта родинка пока не опасна.
Пока!
И тут Верещагин обнаруживает, что ему не столько умирать не хочется, сколько ждать противно. Он идет на кухню и затачивает нож…
Нет, сначала он выскакивает из квартиры и бежит в магазин. «У вас есть ланцет?» – спрашивает он. «Какой ланцет?» – тоже спрашивают. «Ну, скальпель», – говорит он, но его не понимают, так как магазин галантерейный, он не туда зашел. «Скальпель! Скальпель!» – кричит он, пытаясь преодолеть непонимание громкостью. «Извините, гражданин, мы не знаем, чего вам надо», – отвечают ему. Тут находится один образованный покупатель, который разъясняет продавцам, что этому странному молодому человеку нужен парик. «Какой парик?» – не понимает в свою очередь Верещагин и злится. «Тогда я тоже не знаю, чего вам надо», – отвечает оскорбленный покупатель и в тысячный раз решает про себя никогда больше не помогать людям: им оказываешь услугу, а они недовольны. Он уверен, что скальпель – это скальп, то есть, ясное дело, парик, только не синтетический, а натуральный, из человеческой кожи и поэтому, вероятно, более дорогой и дефицитный.
Вот тут-то Верещагин и начинает точить нож – вернувшись из магазина, где испортил настроение продавщицам и покупателю. Он точит нож огромным напильником, который обнаружился в его хозяйстве, – точит и точит, очень долго, а потом правит его на кожаном ремне: нож становится острым только к вечеру, но зато как топор палача, и этот острый палаческий нож Верещагин, предварительно сняв рубашку и майку, берет в правую руку, а родинку – пальцами левой руки – оттягивает подальше от тела, отчего она приобретает сходство с соском худенькой полудетской груди; нож в правой руке, Верещагин заносит его над собой.
И – резко вздрагивает. Нет, не операция, до которой оставалось полмгновенья, испугала его, а телефонный звонок, неожиданно прозвучавший ему в спину, как предательский выстрел, хотя в данном случае это был скорее выстрел друга. Верещагин бросается в комнату, к телефону, родинку он, естественно, отпускает, говорит в трубку: «Слушаю» – он уже несколько лет говорит «слушаю», а раньше говорил «алло», это его профессор Красильников научил говорить «слушаю». «Слушаю»,- говорит Верещагин хриплым от переживаний голосом – он раздет до пояса, в правой руке нож.
«Слушаю», – повторяет Верещагин раз десять. Никто не отвечает ему, но в трубке не тишина: кто-то дышит – там, на другом конце провода – негромко, но явственно, сдержанно и как-то очень содержательно. Верещагин больше уже не говорит «слушаю», он просто слушает – и все, он даже закрывает глаза, чтоб лучше вслушаться в дыхание – размеренное и глубокое, ах, как оно вдруг ему начинает нравиться, просто чудо, а не дыхание, – но проходит минута и – такая досада! – странный разговор закончен, в трубке частые гудки. Верещагин кладет ее на рычаг и некоторое время ждет: он надеется на продолжение.
Но дыхание больше не звонит ему.
Нагишом у телефона долго не простоишь – зябко Верещагину, он поеживается, идет обратно на кухню, надевает майку, рубашку, прячет в ящик стола наточенный нож, – с огромным напильником прямо беда: Верещагин забыл, где он лежал раньше, не знает теперь, куда его деть. Минута чужого дыхания как вечность: Верещагину кажется, что точил нож и оттягивал родинку он очень давно – может, месяц назад, может год.
Он возвращается в комнату, снова снимает рубашку, майку, а также все остальное и ложится в постель.
Поздно уже. Час, наверное, ночи.
50
Второй случай происходит вскоре после первого и начинается с того, что Верещагин наступает в троллейбусы на лапу собаке и та, свирепо рявкнув, цапает его за руку.
Пассажиры троллейбуса на стороне Верещагина: где его видано, кричат они, чтоб собак возили в общественном транспорте без намордника, куда смотрит милиция, инспекция, общественность и так далее. Верещагин выскальзывает из этого шума на ближайшей остановке, он торопится в институт, у него недавно закончился первый страх, он работает с удовольствием, и директор института опять радостно вскидывает при встрече штангу своих бровей, а то было перестал, Верещагин рад возвращению прежней благожелательности; одним словом, ему не до троллейбусных дрязг.
Но уже в институте он внимательно рассматривает неглубокую царапину на укушенной собакой руке, ощущает в душе знакомый зловещий холодок, одну за другой вспоминает истории – вычитанные и услышанные, когда вот так же незнакомая собака кусала человека, а потом он бросался на стенки, исходил пеной и умирал от бешенства… Одним словом, все начиналось сначала.
Не скажу, чтоб мне доставляло удовольствие уделять столько внимания верещагинской смертобоязни. Я вообще не люблю писать о смерти; кроме того, малодушные приступы беспочвенного страха не делают чести великому человеку… Но я подумал: сколько их ходит по миру – жуиров, накопителей, хапуг и прочих уклоняющихся от выполнения своей ответственной миссии на земле… В назидание им я решил описать верещагинские треволнения. Пусть знают, как наказывают боги предавших свое высокое назначение. Наказаны уже? Нет? Значит, предстоит. Ох, как взвоете вы посреди своих вещей, уюта, комфорта, низменных удач и презренных успехов, когда призрачный, смешной, пустяковый, ни на чем не обоснованный страх смерти возьмет вас за глотку жестче, чем обоснованный. Господи, скажете вы, да лучше жить в рубище и синяках, только б не чувствовать эту страшную руку на своей вымытой шее.
В предостережение всем таким людям, в надежде, что хоть некоторые из них поспешат изменить, пока не поздно, свою жизнь, пишу я все это.
Итак, Верещагин вспомнил все вычитанные и услышанные истории заражения бешенством от укуса собаки, и все началось сначала.
Он снова убегает из института. Только, если первый раз он убегал к старику чудодею, то теперь – в библиотеку. Он человек серьезный, научного склада, ему мало беллетристики и сплетен. Он внимательно просматривает необходимую литературу и к вечеру не хуже специалиста-иммунолога знает все симптомы, инкубационные сроки и даже внешний вид пораженных вирусом бешенства клеток при многотысячном увеличении. В первую же ночь вычитанные симптомы овладевают им: вот спазмом сдавило горло, вот слюна что-то никак не глотнется… И в следующую ночь то же самое, и еще в следующую, и еще – ночь за ночью бросает Верещагина то в жар, то в холод; днем он мрачен, рассеян, нелюдим, работа, конечно, валится из рук, директор опять перестает поднимать брови, был даже случай, когда, встретив Верещагина, он опустил их ниже нормального положения, что означало уже не просто разочарование, а неудовольствие.