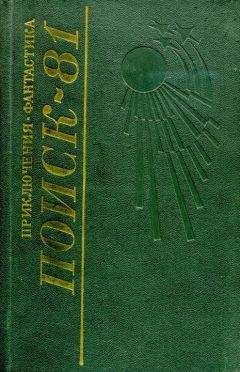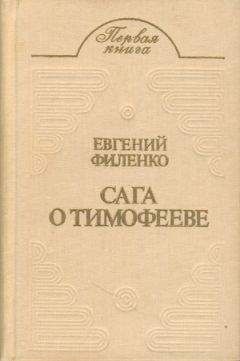Ночью, когда Лера уснула, Костя вспоминал Сережу.
Особенно дружны они никогда не были, сближала их общая любовь к Желоховцеву. Сам Григорий Анемподистович больше, пожалуй, выделял его, Костю. Но, если Якубова это откровенно злило, то Сережу, напротив, заставляло относиться к сопернику с уважением. Впрочем, в науке они стремились к разному и думали о разном. Несколько раз даже пытались выяснить отношения по этому поводу.
«Прости меня, Трофимов, — говорил Сережа, — но ты не историк. Ты антиквар! Вещи для тебя сами по себе интересны, без того, что за ними. Я твое научное будущее очень хорошо представляю. Еще один каталог. Еще одно, самое добросовестное, описание. Повезет — источник обнаружишь новый. Пишет какой-нибудь очередной Синдбад десятого века: славяне ростом высоки, свободолюбивы, женщины их статны, живут в домах из дерева, называемых «хиз-бах». По-нашему — «изба». Это ты в комментарии осветишь со всякими выкладками… Необыкновенно ценные сведения!» Костя защищался: «Без антикваров не было бы и историков». Но Сережа такие доводы вообще не брал в расчет: «Вот описываешь ты, скажем, сасанидское блюдо. Металл, размеры, вес, где найдено, конвой археологический и прочая. А я через это блюдо человека во времени понять хочу. И того, кто его чеканил, и кто ел с него, и кто в землю зарыл…» — «Как же ты это поймешь?» — Костя разговаривал с ним вежливо, как с маленьким. «Не знаю. Может быть, через себя самого». — «Но ты-то в другом времени живешь!» Сережа хмурился: «Это неважно. Для настоящего историка все времена на плоскости лежат, как для господа бога. Я, может, и не то пойму, что сначала хотел, но все равно больше, чем ты. Ты вот точно знаешь, чего ищешь, и в конце концов сам себя во всем убедишь. А знание всегда случайно. Оно и в науке через судьбу дается…» — «А Якубов? — спросил однажды Костя. — Как ты на него со своей колокольни смотришь? — «С Мишкой мы друзья, — объяснил Сережа. — Но он и вовсе никакой не историк. У тебя хоть вещь для науки, а у него наука для вещи!»
Костя понимал, что, наверное, оба они были по-своему правы. Но теперь Сережа был мертв, и его смерть, как утверждал Рысин, каким-то образом оказалась связанной с серебряной коллекцией. Следовательно, и с блюдом шахиншаха Пероза. Все связано в мире. Блюдо, чеканенное полторы тысячи лет назад в Персии, переходило из рук в руки, двигалось по вздыбленному гражданской войной российскому, городу. Вокруг него сплетались судьбы, лилась кровь, и передвижение полка Гилева по железнодорожной линии Глазов — Пермь причудливо отражалось на судьбе сасанидской серебряной тарелки. Это было невозможно еще несколько лет назад. Блюдо оставалось прежним. Шахиншах натягивал невидимую тетиву лука, птица несла в когтях женщину, и что-то они знали друг про друга такое, о чем мог догадываться только Сережа Свечников. Но уже виделось в этой чеканке нечто большее, чем прежде. Угадывались какие-то соответствия и в женщине, и в непрочеканенной тетиве, и в равнодушном ритме обрамлявших края блюда фестонов. То же самое происходило с китайскими шарами из кости, с кузнецовским фарфором и всеми прочими вещами. Они обрели судьбу и потому не должны были исчезнуть. В них было не только прошлое, но и настоящее, и будущее.
Все времена лежали в них, как на плоскости, потому что такое было время — революция!
Рысин появился без четверти восемь.
Костя еще издали приметил его журавлиную фигуру. Он был в форме, тщательно выбрит. Шею плотно облегал свежий подворотничок. Револьвер не оттягивал карман, сидел в кобуре.
— Я думаю, Якубов вооружен, — предупредил Костя.
— Надеюсь… Мне бы хотелось взглянуть на его оружие. — Рысин достал из бумажника револьверную пулю, положил на ладонь. — Этой пулей был убит Свечников.
Костя взял ее, покрутил в пальцах:
— Кольт?
— Точно. Тридцать второй калибр.
— Понятно, — кивнул Костя.
Рысин спрятал пулю, осторожно коснулся его плеча:
— Смотрите!
Вдалеке, на фоне низкой и белой церковной ограды показалась запряженная парой извозчичья пролетка.
22В это утро, не вылезая из постели, Желоховцев протянул руку к стоявшей в изголовье кровати этажерке с книгами и взял томик Токвиля — «Старый порядок и революция». Когда-то они с Сережей говорили об этой книге. Потом разговор забылся, и лишь вчера, вновь пролистывая его дневник, Желоховцев о нем вспомнил.
Толчком послужила следующая запись:
«Токвиль, стр. 188. Беседа с Гр. Ан. о французской революции».
Запись была помечена 28-м февраля 1917 года.
Он открыл указанную страницу:
«Не думаю, чтобы истинная любовь к свободе когда-либо порождалась одним лишь зрелищем доставляемых ею материальных благ, потому что это зрелище нередко затемняется. Несомненно, что с течением времени свобода умеющим ее сохранить всегда дает довольство, благосостояние, а часто и богатство. Но бывают периоды, когда она временно нарушает пользование этими благами. Бывают и такие моменты, когда один деспотизм способен доставить мимолетное пользование ими. Люди, ценящие в свободе только эти блага, никогда не могли удержать ее надолго. Что во все времена так сильно привязывало к ней сердца некоторых людей, это ее непосредственные преимущества, ее собственные прелести, независимо от приносимых ею благодеяний. Кто ищет в свободе чего-либо другого, а не ее самой, тот создан для рабства…»
Последняя фраза была подчеркнута.
Что ж, если так, то он, Григорий Анемподистович Желоховцев, создан для рабства.
В этой цитате из Токвиля жил дух февральских дней, когда аналогии с великой французской революцией не смущали, а вдохновляли. Это было время Мирабо. Потом все смешалось, запуталось. Для него самого, для Сережи, для всех. Наступили иные времена — времена Марата и Робеспьера.
— Гришенька, вставай! — раздался из кухни властный голос Франциски Андреевны. — Каша простынет.
Желоховцев отложил книгу, сел в постели и вдруг услышал слабое дребезжанье оконного стекла. Он нашарил шлепанцы и подошел к окну. На улице было пустынно, ясно. Даже малейший ветерок не шевелил листву на деревьях, но верхнее треснутое стекло продолжало дребезжать все сильнее. Желоховцев прижал его ладонью, и тогда отчетливо стал различим на западе далекий неровный гул.
Он не знал, что еще полчаса назад к начальнику вокзальной охраны влетел телеграфист. В руках у него извивалась змейка телеграфной ленты. Точки и тире на ней извещали: ночью красный бронепоезд «Марат», вооруженный тяжелыми морскими орудиями, прорвался сквозь заградительные посты и ведет бой на расстоянии тридцати верст от города.