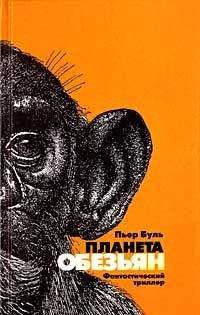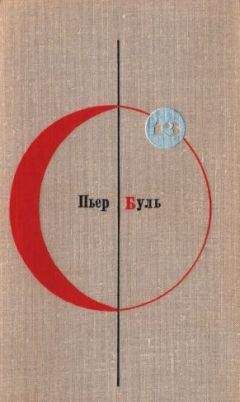Я был в отчаянии, а обезьяны определенно заинтересовались происходящим. Корнелий хмурился, пытаясь решить неожиданную проблему. Мне пришло в голову, что, возможно, профессор Антель симулирует непонимание, опасаясь обезьян. Поэтому я попросил их отойти подальше и оставить нас наедине, что они и сделали без малейших возражений. Когда обезьяны скрылись из виду, я обошел клетку, чтобы быть поближе к углу, в который забился профессор, и снова заговорил с ним.
— Метр, — умолял я его, — мне понятна ваша осторожность. Я знаю, что грозит людям Земли на этой планете. Но сейчас мы одни, клянусь вам, и все ваши испытания позади. Это я вам говорю, я, ваш спутник, ваш ученик, ваш друг, Улисс Меру!
Он снова отпрыгнул назад, испуганно глядя на меня. Весь дрожа и не зная, какими словами его убедить, я стоял перед клеткой, когда рот профессора вдруг приоткрылся.
Неужели мне все-таки удалось его уговорить? Я ждал затаив дыхание. Но то, как он выразил свои чувства, заставило меня содрогнуться. Я уже сказал, что рот профессора приоткрылся, однако это не было сознательным движением человека, собирающегося заговорить. Из его горла вырвался звук, похожий на те, которые издают дикие люди этой планеты, чтобы выразить свое удовлетворение или страх. Я оцепенел от ужаса, а в клетке передо мной стоял профессор Антель и, не шевеля губами, злобно улюлюкал.
Ночь я провел беспокойно, проснулся рано, но долго ворочался в постели и протирал глаза, пока не пришел в себя. Вот уже месяц я вел цивилизованный образ жизни, однако никак не мог к нему привыкнуть и каждое утро просыпался в тревоге, потому что не слышал шороха соломы и не ощущал рядом с собой теплого тела Новы.
Но вот я пробудился окончательно. Я занимал в институте одно из лучших помещений — обезьяны продемонстрировали свою щедрость. У меня были комната с отдельной ванной, одежда, книги, телевизор. Я мог читать все газеты, я был свободен, я мог выходить, прогуливаться по улицам, посещать любые зрелища и представления. Мое появление в общественных местах всегда вызывало любопытство публики, однако ажиотаж первых дней начал уже утихать. Теперь научным руководителем института был Корнелий. Зайуса уволили, впрочем, предоставив ему другой важный пост и наградив в утешение еще одним орденом, а на его место назначили жениха Зиры. В результате произошло омоложение научных кадров и значительное увеличение числа ученых-шимпанзе, что сразу повысило активность во всех секторах. Зира стала ученым секретарем нового руководителя.
Что касается меня, то теперь я участвовал в работах Корнелия уже не как подопытный кролик, а как равноправный сотрудник. Надо сказать, что Корнелий добился этого с немалым трудом, сломив сопротивление Большого Совета. По-видимому, власти до сих пор никак не могли признать мою истинную сущность и происхождение.
Я быстро оделся, вышел из своей комнаты и направился к зданию института, где некогда сам был пленником, к сектору Зиры, которым она все еще продолжала руководить, несмотря на свои новые обязанности. С согласия Корнелия я вел там систематические наблюдения над людьми.
И вот я в зале с клетками, спокойно иду по проходу между ними как один из хозяев этой планеты. Надо ли говорить, что я захожу сюда часто, гораздо чаще, чем это необходимо для моей исследовательской работы? Порой обезьянье общество начинает меня утомлять, и здесь я нахожу своего рода убежище.
Все пленники теперь меня прекрасно знают и слушаются беспрекословно. Делают ли они различие между мною, Зирой и сторожами-гориллами, которые приносят им еду? Сомневаюсь, но хотелось бы в это верить. Вот уже месяц я работаю с ними, однако мне все еще не удается научить их чему-нибудь более сложному, чем обычные трюки, доступные любому хорошо выдрессированному животному. И тем не менее я инстинктивно ощущаю, что они способны на гораздо большее.
Я пытаюсь научить их говорить. Это для меня вопрос чести. Разумеется, пока ничего не выходит, то есть почти ничего: некоторым пленникам удается повторить за мной три-четыре односложных звука, но ведь это могут и наши шимпанзе! Разумеется, это немного, однако я не отступаюсь. Мне придает мужество настойчивость, с какой пленники стараются теперь поймать мой взгляд; глаза их за последнее время как-то изменились, и мне кажется, я улавливаю в них любопытство, отличное от звериного тупого недоумения.
Я медленно обхожу все помещение, останавливаясь перед каждой клеткой. Я разговариваю с пленниками, говорю с ними ласково, терпеливо. Теперь они привыкли к речи, к этим столь необычным в устах людей звукам. Похоже, они меня слушают. Я говорю по нескольку минут, затем отказываюсь от фраз и произношу отдельные короткие слова, повторяю их неоднократно, надеясь услышать ответ. Вот пленник с трудом произносит один слог, но больше от него ничего добиться не удается. Он быстро устает, отказывается от сверхчеловеческой задачи и падает на солому, словно после целого дня изнурительной работы. Я вздыхаю и перехожу к следующему. Наконец я добираюсь до клетки, где прозябает Нова, одинокая и печальная. Во всяком случае, мне, человеку Земли, кажется, что она должна быть печальна, и я стараюсь отыскать это чувство на ее прекрасном и невыразительном лице.
Я часто думаю о Нове. Мне трудно забыть проведенные с нею часы. Но я ни разу больше не входил в ее клетку: меня удерживает чувство человеческого достоинства. Ведь она не более чем животное! Теперь я вращаюсь в высших научных кругах, и подобное панибратство просто немыслимо. Я краснею при одной мысли о нашей недавней близости. С тех пор как я перешел в другой лагерь, я веду себя с Новой точно так же, как с ее сородичами, не позволяя себе проявить к ней никаких дружеских чувств.
Тем не менее я вынужден признать, что она представляет собой первоклассный подопытный экземпляр, и втайне радуюсь этому. Нова делает большие успехи, опережая остальных пленников. При моем приближении она подходит к решетке, и лицо ее искажается гримасой, которую с натяжкой можно принять за улыбку. Прежде чем я успеваю заговорить, она сама произносит с полдесятка выученных ею слогов. И явно старается произнести их получше. Значит ли это, что она способнее других от природы? Или длительный контакт со мной развил ее способности и сделал восприимчивее к моим урокам? Последнее предположение мне нравится больше: оно льстит моему тщеславию.
Я произношу ее имя, потом свое, указывая пальцем то на нее, то на себя. Она повторяет мой жест. Но вдруг я вижу, как лицо ее искажается злобным оскалом, и в то же мгновение слышу у себя за спиной тихий смех.