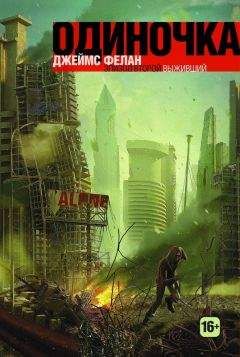— Анна!
Она бежит быстро, очень быстро — не помню, чтобы она так умела. Когда я добегаю до угла, она уже несется через улицу и, остановившись на мгновение, снова мне машет. Ноги скользят, но я стараюсь не потерять Анну из виду. В следующее мгновение я оказываюсь среди стеллажей с книгами. Впереди горит свет, и я вижу в нем их — моих друзей: Анну, Дейва, Мини. Я думал, что потерял их несколько дней назад, что они ушли навсегда и больше не вернутся. Друзья улыбаются.
Мне столько нужно рассказать им, о стольком расспросить. За окном проносятся охотники — они взяли неверный след. Теперь можно не бояться.
— Знаете…
Но я замолкаю на полуслове. Отступаю на шаг, чтобы лучше видеть друзей. Только это не они. На их месте, прямо передо мной стоят Фелисити, Рейчел и Калеб. Что за шутку сыграл со мной организм, неужели я понемногу начинаю сходить с ума, и друзья привиделись мне? Это уже не имеет значения. Наваждение прошло, вот и все.
Нужно что–то сказать троим, стоящим передо мной, а я не знаю что. Я потерялся — и речь не только о словах. Мир летит кубарем, и чтобы не упасть, я хватаюсь за полку с книгами. Вот мои нынешние друзья, им, как и мне, удалось выжить. Я встретил их совсем недавно, уже после того, как остался один, как случилось все это…
Может, я сплю?
Они молчат. В их глазах видны… Впрочем, я могу увидеть в их глазах все, что вздумается. Жалость. Страх. Непонимание. Любовь. Злость.
В их взглядах кроется столько всего, что я не выдерживаю и отворачиваюсь к окну: на улице темнеет. В стекле отражается Анна: черные волосы, красивое лицо, ярко–красные губы, от которых пахнет клубникой. Может, я вижу ее в последний раз, поэтому я смотрю и смотрю, сохраняя мгновение среди других, которым не суждено повториться, и Анна дарит мне долгий ответный взгляд, а потом растворяется в предательском закатном свете. Горизонт исчезает, стирается граница между небом и землей, а ты будто остаешься висеть в бескрайнем небе, в котором одновременно светят солнце и луна, и мерцают звезды.
Я все понимаю. Понимаю, поэтому мне грустно. Дейв не может быть рядом, не может стоять у меня за спиной. И Анна не может. Я знаю только одно место, где мы могли бы вот так вот встретиться, где бы одни трое превратились в других троих. С меня хватит — пора уходить, иначе я сойду с ума и сам захочу остаться с ними. Но что–то внутри, пока, к счастью, мне мешает. Ничего, скоро все кончится, и я больше не буду один.
— Чего ты на самом деле хочешь, Джесс? — спрашивает Анна.
Я смотрю на ее отражение и даже сквозь сон чувствую, что из глаз у меня катятся слезы — я плачу во сне.
Я хочу ровно того же, чего хотел все эти дни, — я хочу домой. Только вот все не так просто. Я больше не знаю, где мой дом. Он там, где мои друзья.
28
Я открыл глаза и повернулся на бок. Очень жарко. Я лежал на диване, укрытый несколькими толстыми одеялами. Я страшно устал, и где–то в глубине сознания копошилось что–то важное, но я никак не мог понять, что. Я выпрямил ноги и сбросил одеяла. Рядом сидел Калеб и писал в толстом блокноте. Хорошо, что я здесь, у него, только вот странное ощущение не покидало меня: мне срочно нужно что–то сделать, меня где–то ждут… Но как, как вспомнить?
— С возвращением, дружище, — сказал Калеб.
Я сонно улыбнулся в ответ.
— Я с тобой всю ночь разговаривал, пока ты спал. Ты что–нибудь слышал? — спросил он.
Я ничего не ответил, пытаясь высвободить сознание из липкого холодного тумана.
— Ты умеешь слушать, должен сказать. Благодаря тебе я кое–что дельное в своей книжке написал.
— В книжке? — переспросил я.
— Ага. Вот в этой. — Калеб показал мне блокнот. Похоже, это были какие–то комиксы. Целый роман в комиксах, судя по толщине блокнота. — Я ну очень заметно продвинулся.
Обложка блокнота показалась мне знакомой: на серо–зеленом фоне черной ручкой была нарисована красивая, но жутковатая картинка. Выжженный земной шар — вернее, его остов, и черный крылатый щит в районе экватора. Щит, защищающий планету?
— Мои злодеи — людоеды, — стал рассказывать Калеб, листая и показывая мне страницы. — Это не единственное их «достоинство», конечно. В общем, они охотятся на людей, ловят их всеми способами, не упуская ни единой возможности. Конечно, до конца работы еще далеко, пока это только концепция, но вполне достойная, я считаю.
– С виду неплохо, — ответил я. Рисунки были черно–белые, очень детальные, по девять на каждой странице; герои действовали на фоне города, очень похожего на нынешний Нью–Йорк, вернее, на фоне города, каким Нью–Йорк обещал стать в самое ближайшее время.
Я вспомнил, как пришел к Калебу, как постучал в дверь, как потерял сознание.
— Вот здесь я черпаю вдохновение, — сказал Калеб, показывая несколько разложенных на полу открытых книг с репродукциями. Рисунки там были цветные и жуткие, но я все равно не мог отделаться от мысли, что по–настоящему моего нового друга вдохновляли события последних двух недель, а вовсе не шедевры былых мастеров. — Смотри, моя любимая картина. «Плот «Медузы»» Теодора Жерико.
Двойной разворот книги занимал кое–как сколоченный деревянный плот, покрытый мертвыми и умирающими в страшных муках людьми; несколько живых сидели и стояли.
— Впечатляет… — только и мог сказать я.
— Да. В 1816 году французский фрегат «Медуза» потерпел крушение… Художник навещал в госпитале выживших, делал наброски — чтобы все было точно. Он даже построил макет плота. И еще, не поверишь, хранил на крыше студии замороженную человеческую голову, чтобы достоверно изобразить трупы. Представляешь, он… Слушай, что–то меня занесло. Извини. Я могу часами говорить о живописи и рисунке. Смотри, даже сама композиция полотна…
Я кивнул. Рассказ Калеба странно подействовал на меня и вызвал перед глазами целую вереницу непонятных сцен. И, черт побери, они были слишком похожи на то, что происходило вокруг, даже реальнее самой реальности.
Может, это из–за того, что я ударился головой? Или из–за таблеток?
Может, я до сих пор не разобрался, что происходит по–настоящему, а что — только в моем воображении.
От некоторых вещей мне остались одни воспоминания. Я помнил, что жил в счастливой семье, пока не ушла мама. Но были и другие, которые хотелось поскорее изгнать из памяти: сначала мне казалось, что для этого будет достаточно просто уйти из Рокфеллеровского небоскреба, забыть о нем. Но ведь с проведенными там днями было связано не только плохое. А потом я понял, что мне дороги даже вещи, казавшиеся когда–то стыдными и глупыми — ведь их тоже не вернуть.
Но, как говорят, жизнь научит — а что, отличное название для какой–нибудь книжки, надо подкинуть Калебу идею: теперь я знал: ни одному воспоминанию нельзя безоговорочно верить, ведь они не подчиняются мне.