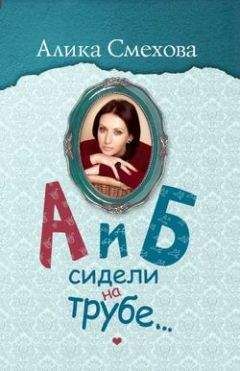– Шотер…[3] – сказал Игорь, не поднимая головы. – Он дурак.
– Да? – сказал я осторожно.
– Он думает, это мама.
Внимание. Сейчас нужно точно подбирать слова, особенно если учесть, что не всякое русское слово Игорь понимает правильно.
– Мама?
– Рацха ото.[4]
Нужно, чтобы он говорил по-русски. Иначе разговора не получится, каждое слово придется интерпретировать, а мне нужно было знать абсолютно точно.
– Не понимаю, – сказал я. – Ты знаешь, с ивритом у меня проблемы.
Игорь поднял на меня тяжелый взгляд. «Не строй из себя Незнайку, – говорил он, – разве я не слышал, как ты говоришь на иврите?»
– Мама, – сказал он. – Убила папу. Дурак.
– Дурак, – согласился я. – То есть… Не дурак, конечно, просто он ошибается. Он не знал маму. Не знал папу. Не знал, как они друг друга любили. Ничего не знал.
– Тогда молчал бы.
Резонно.
– Такая у него работа, – вздохнул я. – Он хочет понять, кто это сделал. Кто-то же сделал это. Конечно, не мама. Не бабушка. Не… – я помедлил, – не ты.
Взгляд Игоря стал совершенно непонимающим.
– И не я. Я был на балконе и, к сожалению, вообще не видел, как это…
– Никто не видел, – сказал Игорь странным голосом, почти не разжимая губ.
– Кроме тебя, – твердо сказал я. То есть я хотел, чтобы мой голос звучал твердо. Так твердо, чтобы Игорь понял: мне все известно, но чтобы не испугался, не ушел в себя, не закрылся окончательно. Если не получится, если он спрячется в скорлупу, как это часто делал Алик, если придется все отложить на другой день, то он может забыть самое главное, то, что сейчас кажется ему второстепенным, он еще не способен отличить нужное в собственной памяти от лишнего, Алик тоже был таким в его возрасте. Мне обязательно нужно было довести разговор до конца сейчас, сегодня.
– Кроме тебя, – повторил Игорь. Похоже, простые слова русского языка прозвучали для него непонятными, непереводимыми звуками, иначе почему он повторил их за мной?
Может, перейти на иврит? Не так уж плохо я знал язык – сумел же объясниться с Шаулем, мы прекрасно друг друга поняли, даже в нюансах. Нет. Пусть подбирает русские слова. Пусть думает. Это поможет вспомнить то, что, возможно, уже начало забываться.
– Кроме тебя. – Я повторил еще раз, сделав ударение на втором слове, будто гвоздь вбил. – Ты видел. Ты ведь все видел, верно?
Игорь молчал. Я понимал, что поступаю жестоко. Две памяти сейчас боролись в его сознании. Две совершенно реальные для него картины. Одну он с самого начала старался отбросить, забыть, не вспоминать – нормальная защитная реакция детского организма. Вторую он забыть просто не мог, хотя, наверно, тоже старался.
– Когда я вошел с балкона, – сказал я, – ты стоял на пороге своей комнаты.
– Да, – сказал он.
– Ты видел…
– Да.
Я подошел, стараясь поймать его взгляд, опустился на колени, теперь наши глаза были на одном уровне, у Игоря были глаза Алика, у меня даже холодок пробежал по спине, так они были похожи – голубые, с серым отливом, в зрачке я видел себя, но почему-то не такого, как сейчас, а другого, каким был в те же десять лет, мы как-то сидели с Аликом на дворовой скамейке, он так же смотрел на меня и рассказывал, медленно, слово притягивая к слову, говорил о том, что видел в тот момент, а я слушал и думал про себя, что фантазия у моего друга какая-то странная… хотя и знал уже тогда, понимал, что это не фантазия, не галли… я не мог в то время правильно произнести это слово даже мысленно, все время ошибался… галлицена… выдумка, в общем. Игра воображения.
– Скажи, – осторожно сказал я, на время позволяя Игорю все-таки отвлечься. Если давить, можно все испортить. Пусть подумает о другом. О другом, но о том же самом, – скажи, ты ведь и раньше видел разные вещи… которые происходили не здесь.
Он вскинулся. Видел. Конечно. И слышал. И осязал. И чувствовал. А дома об этом не говорили. При сыне – никогда. Табу. Бедный мальчишка. Впрочем, не более бедный, чем был Алик в его возрасте.
– Вещи? – переспросил он. – Дварим раим?[5]
– Плохие? – Я все-таки старался вести разговор по-русски, пусть подбирает слова, пусть думает, это поможет вспомнить точнее, во всяком случае, я почему-то надеялся на это. – Почему плохие? Может, хорошие. Всякие. Тебе казалось, что ты смотришь на этот шкаф, а видишь почему-то улицу… Или школу…
– Почему шкаф? – спросил он. – Почему улицу? Ани раити…[6]
Как трудно подбирать правильные слова, когда не знаешь, какие нужны именно сейчас!
Когда Игорь пошел в детский сад и впервые оказался вне бабушкиной постоянной опеки, мы говорили с Аликом о том, мог ли сын унаследовать отцовскую способность существовать в Многомирии, осознавать его так же, как осознавал Алик. Я давно думал о такой возможности, гены есть гены, а что именно передается по наследству – кто знает… Но мне почему-то казалось кощунственным заговаривать об этом с Аликом, я думал, что такой разговор будет ему неприятен, не нужен, возможно, он вообще старался не размышлять на эту тему, иначе сто раз подумал бы, прежде чем заводить ребенка – во всяком случае, я подумал бы сто раз или больше. Игорь родился через девять месяцев после того, как они с Ирой поженились, значит, мысль о том, что надо бы поостеречься, не приходила Алику в голову. Или приходила, но не показалась ему такой уж важной…
В тот день, когда Игорь был еще в детском саду, мы сидели вдвоем на кухне (совершенно не помню, где была Анна Наумовна – может, в магазин вышла?), и я задал вопрос, который давно меня мучил:
– Алик, – сказал я, – ты никогда не думал, что Игорек… ну, что у него могут появиться такие же способности, как у тебя? У него зимой болел желудок. Не могло ли это быть… Ну, ты понимаешь… Не передается ли по наследству…
– Да, – немедленно отозвался Алик, будто все время ждал, когда я спрошу именно об этом. – Да, конечно. Я думал. Каждый день. Странно, что ты меня никогда не спрашивал.
– Мне почему-то казалось, что тебе неприятно.
– Но ты все равно должен был спросить.
Он замолчал, и я не прерывал паузы – если мы уже заговорили на эту тему, то все будет сказано, незачем торопиться. Алик налил чаю себе и мне, долго размешивал сахар и, наконец, сказал задумчиво, вертя ложку в руке:
– Когда мы с Ирой поженились, я ей сразу все рассказал. Нет, даже раньше… Когда сделал предложение, а она согласилась. Мы все обсудили тогда и решили: будем жить так, будто ничего странного не происходит. Иначе можно рехнуться, согласись.
– Не знаю, – пробормотал я.
– Да, – уверенно сказал Алик. – И потом мы больше это не обсуждали.
– Но бывали времена, – не удержался я, – когда тебе становилось плохо: проблемы с печенью, с легкими, с ногами. И вы с Ирой…