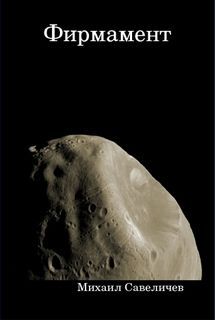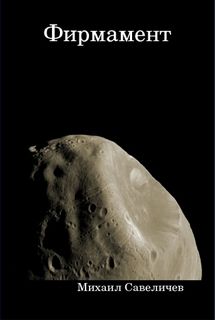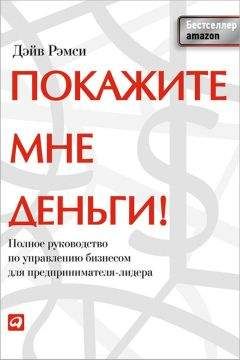Остается только извлекать уроки — мучительное внимание к миру, наслаждающегося уважением, но не дающего ничего взамен. Потому что главный урок — ты не можешь ничего сделать с миром, но мир может всегда сделать с тобой все. Вознести и унизить, возродить и рассыпать, обмануть и прозреть. Если больше нет времени, Одри, то какую мудрость ты осознаешь? Всегда и вечность. У Человечества отняли небо, и оно низверглось в пучину греха и гнева. Что будет, если у Человечества отнять вечность? Ту непрерывающуюся потенцию, которая не нуждается ни в чем, что она уже имеет. А имеет она все, и человек здесь излишен, так как он весь во времени, пусть даже оно совершенно, как думают некоторые, но он, червь склепа, все-таки нуждается в последующих моментах времени, будучи ущербным в смысле времени, в котором нуждается.
Нет ничего скучнее жизни, обращенной в философский трактат. Вечное течение превращается тогда в редкие и несвязанные вспышки внутреннего пламени, отражающегося в бесконечности, но не приобретающего этим обыденной человечности и приземленной судьбы.
Одри ничего не оставалось, как идти вперед.
Стальные стены исходили угрожающим гулом вслед уходящим и потели сложной смесью воды, антифриза, смазки. На фоне расползающейся мутировавшим лишаем ржавчины неожиданно неестественных радужных расцветок выделялись лишь пятна люков, затертых до блеска многими поколениями оберонских червей. Кое-где крепко вбитые в глотку планетоида металлические туннели начинали подаваться мертвому напору прожженной до стерильности породы, выпячиваясь угрожающими вздутиями, обросшими давно разрядившимися телеметрическими датчиками. Сложный трехмерный лабиринт, скормленный неисчислимым количеством человеческих жизней, одухотворенный мучениями задыхающихся малых сил, живучая стальная опухоль, устало поддающаяся радиотерапии и уже неспособная обильно извергать метастазы, тем не менее все еще держала оборону, с легкостью жертвуя участками выгрызаемых спутником коридоров, жизнями червей отыскивая и выстраивая обходные пути.
За указателями приходилось следить внимательно. Вязь Оберон-сити прихотливо опутывала терминалы космодрома, откуда выплевывались в синюю бездну челноки, перевозя грузы и пассажиров на висящие между круглым небом и угрюмой поверхностью этого космического театра шекспировской трагедии похожие на колоссальные личинки рейсовые толкачи — с крохотной головкой термоядерного движка и белесыми сегментами водяных баков и пассажирских ангаров. Там, где находилась развязка, коридоры дробились на узкие отводы, больше подходящие для перекачки воды и жидкого кислорода, испятнанные грубыми мазками цветных путеводных стрелок, в сумраке мигающего освещения сливающиеся в единый серый цвет, не желающий выдавать свои сокровенные тайны спешащим покинуть город чужакам. Но растянувшаяся цепочка пассажиров уверенно вползала в очередной переход, подчиняясь и доверяя первому прошедшему избранной дорогой, иногда останавливаясь и ожидая, когда спазм коридора пропустит неудобный груз какого-то ненужного тряпья. Тогда Одри останавливалась, взгляд соскальзывал с железных стен и проводов на ее спутников, неохотно выпадающих из слитой, единой массы отверженного материала специфического катализатора, порождающего нарушение космического равновесия при соединении с вечностью ледяных и каменных глыб.
Безликие лица. Слепые глаза. Пустые души, выпитые до переборок простейших инстинктов. Нелепые тела, слишком тяжелые, грубые, материальные, приземистые — не основательность и уверенность чудилась в них, а вырождение, сдавленность, неумелое балансирование на лезвии между жизнью и бесполезностью. Космический ягель, вбитый в грязный лед стужей и жаром, рождающий не восхищение, но злобную жалость и издевательское наслаждение несовместимую смесь нечеловеческих условий. Даже малые силы, коричневой скованной вереницей продвигающиеся к новому рабству и близкой смерти, еще до рождения растеряли легкость и непосредственность, когда новизна искупает страдания. Молчание было натянуто на захлебывающийся вой усталых механизмов — туберкулезных легких вентиляции и регенерации, предынфарктных сердец энергоустановок, засоренных острыми камнями очистных модулей. Сложный анамнез и не проясненный катамнез.
Но и безобразие имеет свое совершенство. Громадная, распухшая, слепленная кое-как из подручного материала ингибиторов големообразная фигура притягивала и насиловала взгляд выдающейся отвратностью и бестолковостью. Словно еще раз пробило в здешнем царстве злобных карликов вскипающее море потенций, выродив возможности в узком диапазоне между дебильностью малых сил и уродством чудовищного создания, куда все равно не смогло вместиться то, что именуется человеком. Театр. Пародия. Каприччос. Лицо злой резиновой куклы с пучками изъеденных временем волос и неживым блеском пластмассовых глаз, слишком похожих на заживо замороженные в криогене. Было непонятно, как подобный бесформенный куль протискивался через узкие переходы, и чем ему приходилось жертвовать — клочками коричневого сари или кусками плоти.
Высокая, худая и лысая Одри также была примечательным экспонатом шествующего цирка уродов, ее мазали затравленные взгляды автохтонов и кололи неприятной нежностью агонизирующей бабочки ручки малых сил. Все было чуждым, но словно невозможная ниточка симпатии протянулась между ней и жутким творением непонятной генетической программы. Грязные лица, тела, потеющие от собственного тепла, надвигающийся удар исчезновения привычных стен Громовой луны и шок, переключающий мучительную клаустрофобию в сводящую с ума агорафобию; и два полюса притяжения, между которыми начинают прорастать эквипотенциальные поверхности, нанизывая ничего не понимающих статистов на исчезающе тонкие ножи приближающихся событий. Цирк обязан давать представления, миссия безобразия — столкнуть уснувшего с привычно серой колеи обыденного восприятия в нечто отвратно-прекрасное, гармоничное в своем нарушении любых канонов, глазами почувствовать физическую боль врожденного преодоления стандартных рамок приемлемой человеческой анатомии.
Стеклянные кругляшки равнодушно пропускали замершую во внезапном узнавании Одри, а туго надутые баллоны рук с крошечными ладошками бестолково шевелились, инстинктивно стараясь дотянуться до стекающей из распущенного рта слюны. Затем процессия взволновалась, задышала, зашевелилась, как барахтающаяся в грязи многоножка, подняла и взвалила на плечи тюки, вновь включаясь в неторопливый ритм самопожертвования огненной дыре космодрома, без разбора глотающей подносимые ей дары.