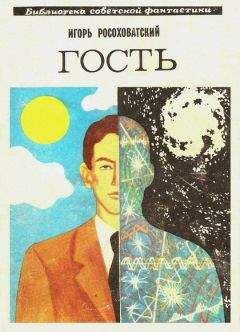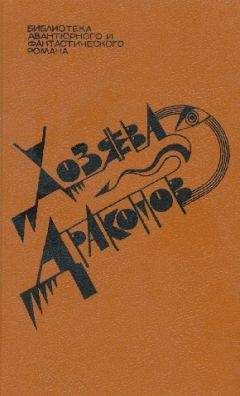Бедный Александр Николаевич не мог и предполагать, какое действие на полковника окажет его замечание об интуиции…
— Подождите минутку, — попросил Александр Николаевич Михаила Дмитриевича, когда они вышли из автомобиля и остались одни на улице. Лицо руководителя лаборатории было нездорового желтого цвета, темные круги увеличивали глаза.
Михаил Дмитриевич почувствовал болезненный укол жалости: с этим человеком он проработал десять лет, Александр Николаевич всегда выглядел уверенным в себе, бодрым, энергичным руководителем. Он умел принимать крутые решения, брать на себя ответственность там, где другие не решились бы.
Подумать только, как он изменился! И голос его звучит иначе:
— Вас не мучает вопрос — почему он все время убегает от нас?
— Вы в самом деле не знаете ответа? Александр Николаевич кивнул.
— Разве вы не помните, сколько раз мы спорили до хрипоты в лаборатории, можно ли нам супермозг приспособить для работы на Земле, среди людей? И вы всегда твердили решительное «нет». Вы боялись, что он уже одним своим существованием будет принижать людей. Если помните, я просил вас не говорить этого при нем. Но вы ответили, что он слышит не лучше шкафа, поскольку не имеет ушей.
— И вы думаете…
«Неисправимый, он и сейчас притворяется, будто не понимает. Ну, так получай!» Михаил Дмитриевич облизнул губы и «выстрелил»:
— Я уверен, что он «слышал» нас. Не знаю, каким образом, — может быть, в виде электромагнитных волн, — но он воспринял эту информацию. А в том, что он не желает быть уничтоженным, нет ничего странного. Как и в том, что он хочет изучить своих создателей. Дети тоже изучают своих родителей, только последние этого обычно не замечают.
Лицо Александра Николаевича исказилось, но уже через несколько секунд он овладел собой.
— Он может прийти к страшным для нас выводам, — изрек он.
«Напрасно я жалел его, не стоило», — подумал Михаил Дмитриевич и твердо сказал:
— В тысячный раз напоминаю вам одну и ту же формулу гуманистов: мудрость и добро неразлучны!
Аля удивлялась себе: «Как же это я иду против всех? Как я смею? Ведь полковник сказал, что разыскать Юрия необходимо в интересах человечества. Полковник мудрый, правдивый. Выходит, я против человечества? Нет, не против. Просто человечество для меня какое-то общее понятие, абстракция. А Юрий — конкретный, близкий. Но человечество — это люди, такие же, как я. А он…»
Тут ее мысли заходили в тупик. Она не могла думать о Юрии как об искусственном существе с враждебными намерениями. Она вспоминала его объятия, его дыхание на своей коже, его изумление: «Вот, оказывается, как это бывает…»
Аля отвлекалась только на работе и старалась не оставлять себе времени для отдыха и «посторонних» размышлений. Когда допекали вопросами о Юрии, она становилась злой, раздражительной, и от нее быстро отставали даже самые дотошные.
Аля нарочно бродила вечерами по самым отдаленным и пустынным улицам, останавливалась в самых темных аллеях парка, чтобы Юрий, если все-таки он прячется в городе, мог подойти к ней без риска.
Несколько раз ей снилось, что он вернулся. Проснувшись, она долго лежала, снова и снова переживая сон.
Ее навещали подруги и знакомые, рассказывали о своих горестях и удачах. Она давала им вполне разумные, дельные советы. Ее коллега, Маргарита Петровна удивлялась: «Алька, да ты никак стала мудрой!»
Однажды ей приснился Юрий очень ясно — он вошел в комнату, сел за письменный стол и стал что-то писать. Она помнила, что тень от стола доставала до ее постели, падала на подушку.
«Юра!» — окликнула она.
Он повернул к ней измученное лицо.
«Когда ты вернешься?» — спросила Аля.
«Я все время рядом с тобой», — ответил он.
«Хочу, чтобы ты вернулся навсегда».
«Не произноси этого слова. Навсегда — страшное понятие. Это черно-фиолетовая пустота, в которой не слышны шаги и стук часов».
Она протянула к нему руки, но в этот момент послышался звонок. Аля проснулась, вскочила с постели, никак не могла попасть ногами в тапочки.
Раздался второй звонок.
Наконец она запахнула халатик, выскочила в прихожую и открыла замок. В дверь боком протиснулся Михаил Дмитриевич. Приподняв шляпу, поклонился.
— Доброе утро, — сказал он. — Извините за ранний визит. — Он еще раз приподнял шляпу, открывая лысеющую голову. — Мне необходимо с вами поговорить.
— А где ваш грозный начальник? — спросила Аля.
— Кого вы имеете в виду? — Михаил Дмитриевич решил, что она приняла его за сотрудника милиции.
— Теперь, кажется, моя очередь извиняться, — сказала Аля.
Михаил Дмитриевич засмеялся. Он смеялся как ребенок — заливисто, неудержимо. Прыгали полные губы, тряслись плечи, взмахивали руки. Аля тоже улыбнулась. Лед был сломан.
Но уже в следующее мгновение Аля, нахмурившись, спросила:
— Хотите говорить о нем?
— И о вас, — ответил Михаил Дмитриевич, платочком вытирая пот со лба,
— А что обо мне говорить? Со мной все ясно.
— Все, да не все. Как в любви: и луна светит, но и горы высоки.
Аля не успела бросить уже приготовленное «а это касается только меня», потому что Михаил Дмитриевич быстро добавил:
— Юра достоин любви. Это я вам говорю совершенно объективно, как один из его родителей.
Он и тут не мог удержаться от шутки, но Аля не заметила ее. «Он знает о Юре многое», — подумала она.
— Он оригинальный человек, — продолжал ученый, совершенно спокойно и естественно произнеся слово «человек». — Могущественный, мудрый. И, как всякий мудрый человек, он не может быть злым. Мудрость и зло несовместимы, ибо зло всегда неразумно.
— Вы им это говорили?
— Конечно.
— И что же они?
— Кто не хочет услышать, тот не услышит.
— Они и мне не поверили. А ведь он любит меня понастоящему.
В словах Али слышался скрытый вызов, и Михаил Дмитриевич поспешно подтвердил:
— Он способен на глубокие чувства. На более глубокие, чем…
Михаил Дмитриевич хотел сказать «чем некоторые люди», но спохватился и принялся подыскивать подходящее слово. Аля нашла быстрее:
— Чем многие другие. За это я могу поручиться! Она даже притопнула ногой для большего утверждения.
— Именно это я и хотел сказать. Аля, как и в первую их встречу, прониклась к нему доверием. Она спросила о том, что давно мучило ее:
— Может быть, мне не надо было говорить академику о Юре?..
— Э…
— Я дура!
Полные губы Михаила Дмитриевича то вытягивались, будто он пытался улыбнуться, то недовольно выпячивались. Наконец он заговорил: