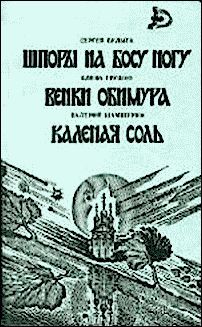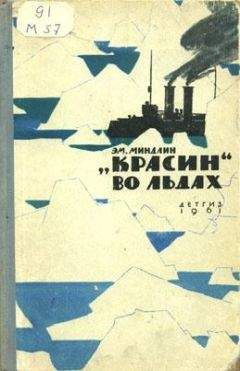— Смотри покуда, — тихо проговорила старуха. — Это светильники жизни: большие — у детей, средние — у взрослых, малые — у стариков. Бывают малые и у детей и у взрослых. А бывает и так…
С этими словами махнула она черным платком, будто птица — тяжелым крылом, и тотчас добрая половина свечей разом погасла. Которые еще тлели, но догорали и они. Разом потемнело в подземелье, а когда пообвыклись глаза Изгнанника, старухи рядом не было: видать, пошла-таки дальней дорогой своей…
Пошел и он назад тропу искать, долго брел наугад меж потухших свечей, и тяжело, тяжело было на сердце. И вот наконец забрезжила вдали небесная звезда, глянувшая в подземелье через заброшенный колодец. Вышел к звезде Изгнанник. А на дворе белый день.
Но… что это? Куда он попал?
Еще недавно тут избы стояли. Вот здесь слушал он ночной разговор. А теперь колодец не просто обвалился или обветшал — обуглен сруб до черноты. И домов нет, и деревья не шумят — нет деревьев. И серая пыль летит. Пепел это… И никого. И нигде никого!
Поле, серое поле.
Прижал Изгнанник ладони к ушам. И когда заглушил тишину, услышал негромкий вой. Или плач? Не поверил себе Изгнанник — тоненький голосок выводил:
Ты запой, ты запой, жавороночек,
Ты запой свою песню, песню звонкую!
Ты пропой-ка, пропой, пташка малая,
Пташка малая, голосистая…
Бросился на голос Изгнанник. Кто пел? Хоть бы собаку увидать, неужто сгорело все?
Вой несся из-за печной трубы. Взобрался Изгнанник на пепелище. Прижав лицо к коленям, горько плакал Домовой. Вся его мохнатая головушка с ушами лошадиными была обсыпана пеплом, седоволосые ладони гарью измараны.
Вскинулся Домовой, чужого почуяв. Слезы плыли из его глаз. Сказал он:
— Плачь и ты, странник. Тут не только человек — и кремень взрыдает!
Сел Изгнанник рядом на обгорелую печь. И под вой одинокого ветра выслушал…
Лишь заутрело, вошел в деревеньку ворог с чужестранным ликом. Шлем на нем был о двух рогах, на одежде — черный паук, в руках — оружие. И не один был он — было их множество. Железные кони их рычали, словно лютые звери, и смердели, будто гнилое болото. И ударил ворог ногой в дверь избы, куда ночью гость тайно пришел. Выволок во двор хозяина и хозяйку и детишек их белоголовых. А гость сам вышел и стал поодаль ни жив ни мертв, сыновей к себе прижимая. Только вчера вот так же навел он ворога на Лаврентьевку, видел, что там сделали, знал, что теперь здесь станется. По его вине и наущению… А если б не дал он ворогу покуражиться, то еще вчера пристрелили бы его вместе с детьми, как убили его жену, когда наотрез отказалась она вершить это страшное дело. И, глядя с небосвода на этого сына своего, подернулась кровавой дымкой его звезда, потому что продал он кровных своих, сожженных, задушенных, живьем в землю зарытых…
И пошли вороги по деревне, и гнали со всех дворов и детей, и стариков, и матерей. А кто противился, падал на сыру землю недвижимо.
И собрали всех перед большой конюшней, и вышел ворог начальный, и смех он изрыгал, что слюну ядовитую, и указал на гостя ночного, и еще сказал, ломая язык, будто гость был подослан, а за укрывательство его — всем лютая смерть. И тогда хозяин, укрывший подсыла, плюнул в лицо его. И заплакал гость, и пал в ноги ему, бормоча, что ради детей, ради детей…
Осерчал на него ворог за те слезы и толкнул тоже в толпу, что смерти ждала. И никто не спасся, все в огонь ушли. И деревню пожгли, и коней пожгли, закончил рассказывать Домовой. Осталось лишь серое поле.
Когда Изгнанник очнулся от страшного видения, Куратор не отозвался ему. С тех пор он не выходил на связь. Судя по всему, и впрямь понес наказание. А птица-Юстрица летала над Русью долгие четыре года!..
* * *
Егор сидел за столом, уткнувшись в ладони. Опять те же лица… Что же это, что за хоровод кружится вокруг Изгнанника? Хоровод, в котором меняются маски и платья, а люди остаются прежними!
Мысли путались. И невольно, повинуясь человеческой привычке, прошептал Изгнанник:
— Слава Богу, что все это скоро кончится!
Но раздался стук в дверь — и мигом забылось все, кроме… Егор не видел Юлию уже третий день. Вот так и истекли они. Грядет расставание. День возвращения настал! Изгнаннику раньше казалось, что это будет день счастья, а он начался в тоске. Сердце щемило от обиды, как ни уговаривал себя Егор, что все к лучшему. Вот чисто человеческая глупость: готовился избегать Юлию, заранее страдал от обиды, которую придется нанести ей, но она сама не давала о себе знать, и перед лицом ее непонятной небрежности он оказался незащищенным и одиноким до тоски.
Ничего. Потерпи еще немного.
Стук повторился, Егор отворил…
Никифоров? Вот уж редкий гость! Даже в последнее время, когда шеф вынужден был признавать смысл в опытах с памятью растений, он не очень-то жаловал Егора вниманием. «А, что мне теперь его внимание или невнимание? Как поется в их песне, придут за нами те, кто лучше нас!» И все же Егор не стал огорчать Никифорова невежливостью: пригласил, усадил, все честь честью.
Но шеф был какой-то странный. Понятно, что беспокоиться есть о чем. Если начнется строительство завода, прощай, Отдел, прощай, руководящая должность. Но не до такой же степени переживаний доходить!
— Вы, Егор Михайлович, должно быть, замечали, — наконец-то собрался с мыслями Никифоров, — мой определенный скептицизм по отношению к вашим опытам.
— Да уж! — усмехнулся Егор.
— Вы должны понять, что делал я это отчасти, из побуждений педагогических, а потом, мне казалось, что вы и сами не очень-то всерьез воспринимаете свою работу.
«К чему бы это?»
— Конечно, Юлии Степановне удалось, так сказать, ввести меня в заблуждение со своим опытным полем…
«Что?!»
— Я поверил во все эти прожекты, увлекся ими. Меня отчасти оправдывает то, что и руководство института, и вообще…
Он являл собою поистине удручающее зрелище.
— Да что случилось-то, не пойму? — раздраженно воскликнул Егор.
— Как? Вы разве сегодня не читали «Вперед»? — Он выхватил из кармана газету. Она имела вид позапрошлогодней.
— В чем дело? Уже статья Голавлева? Вот это темпы! Действительно, без «волосатой руки» тут не обошлось.
— Вам смешно? Посмотрите, посмотрите, — Никифоров сунул ему газету и вздохнул с облегчением, будто избавился от взрывного устройства в кармане. У него даже язык развязался:
— Конечно, все, что касается психики, тем более — памяти, дело темное. Как бы тут не сбиться с правильной линии к шарлатанству…
Егор развернул газету — в глаза бросился заголовок: «Память трав или беспамятство гражданственности?» Почему-то он долго не мог отвести глаза от этой тяжеловесной конструкции из букв.