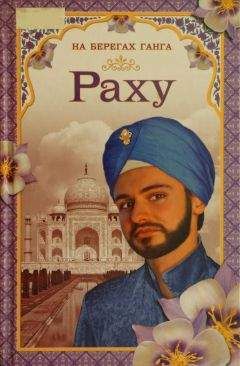Кое-что из рассказанного Торковой дочерью Леф уже знал от Хона, кое-что еще раньше успела растолковать ему ведунья, но все равно слушать Ларду было интересно. А может, даже и не слушать — просто глядеть в оживленное, раскрасневшееся девчоночье лицо.
Вот только те, рассевшиеся вокруг, помешали забыться. Ни с того ни с сего они завопили, взревели, будто перебесились вдруг и все сразу, а потом принялись с треском лупить себя ладонями по коленям — все быстрей и быстрей, выкрикивая в такт неразборчивое. Леф испуганно завертел головой, пытаясь уразуметь, что же за напасть приключилась с нелепыми этими людьми. Как ни странно, он сразу догадался, что творится, и прочее тут же потеряло для него смысл и привлекательность.
К ополоумевшему сборищу степенно и медленно шел очень тяжелый кряжистый человек. Широкие плечи, руки-лопаты чуть ли не до колен, устало-снисходительная гримаса на белом, не тронутом загаром лице… А черная, с обильной проседью борода сияет-переливается бесчисленным множеством цепочек и бляшек, накидка немыслимо изукрашена, пышная грива стянута на макушке ярким ремешком, будто травяной снопик. Певец. И не кто-нибудь, а сам Точеная Глотка, равных которому в Мире нет.
Мурф долго стоял, самодовольно щурясь поверх голов беснующегося люда. А потом в уши впилась внезапная тишина, когда Отец Веселья обернулся к стоящим позади невзрачным мужикам (только теперь Леф заметил, что великий пришел не один) и ему торопливо подали огромную, источенную затейливой резьбою виолу. Потерявшийся в непомерных пальцах лучок зашнырял по струнам, и те отозвались чистыми стремительными руладами:
Мир наш тесен и дик, жизнь неласкова к нам —
Нет ни мига покоя усталым рукам.
Все равно нам негоже стонать и тужить:
Слава Мгле, что хоть так разрешила пожить.
Слава Мгле, мы умеем терпеть и страдать,
И трудиться, и петь, и врагов убивать.
Слава Мгле, что, решив наших предков карать,
Не измыслила кары побольше.
А тоска — это хворь от излишка ума,
И она, чуть помучив, уходит сама.
Ну а коль заупрямится, то — Слава Мгле! —
Эту хворь без хлопот исцеляют в корчме.
И Мир тотчас же станет велик и широк,
Лишь корчмарь откупорит заветный горшок,
Лишь согреет нутро твое первый глоток,
И второй, и четвертый, и больше.
Наливай же, красотка, и пей, и добрей,
И на злобу судьбы обижаться не смей:
Брага, теплое ложе да ночь без огней
Нам сулят и веселье, и больше.
Голос Мурфа был под стать его могучему телу, и все же слушавшие не то что говорить — даже шевельнуться боялись, чтобы даже шуршаньем одежды не осквернить пение. А Отец Веселья, едва закончив первую песню, заиграл новую, потом еще одну, и еще… Когда же он отдал виолу в бережные руки своих провожатых и, утерев ладонями обильный пот с раскрасневшегося лица, принял от Кутя огромную мису хмельного, Леф напрочь оглох от воплей, воя и визга.
Хвала Бездонной, хоть Ларда не скакала, как прочие, — только попискивала тихонько да колотила себя по коленям, и похоже было, что останутся ей на память о Мурфовом пении немалые синяки. Лучше бы на огороде так усердствовала…
Леф не сразу понял, почему злит его радость Ларды, почему так неприятна восторженность прочих. А дело было в том, что чувствовал он себя обиженным и обманутым. Лучший из певцов, несравненный, великий… Ну и что же такого особенного привелось услыхать? Песен было много, и все вроде бы ладные, веселые, только… Бессмысленные они какие-то, песни эти. Веселить веселят, а душу не трогают.
Но, может, Леф еще слишком глуп, чтобы уразуметь смысл услышанного? Или помешало, заморочило голову неуемное ликование толпы? Он же по сию пору ничего подобного… мало сказать, не видел — даже вообразить не мог, что люди умеют так…
Между тем Точеная Глотка Мурф разделался с хмельным угощением и скользнул слегка осоловелым взором по мгновенно затихшему людскому месиву.
— Давненько уже не случалось мне побывать в Галечной Долине. — Певец выглядел задумчивым и немного усталым, но голос его будил гремучее эхо в неблизких утесах. — Скучно стало мне ездить сюда с тех самых пор, как вышел на Вечную Дорогу старый брагохлеб Арз. Не стало в этой долине певца, не с кем мериться теперь струнным умением. Плохо. Скучно. Но может быть, за последние годы появился в здешней общине неведомый мне мастер певучего дерева? Если так — пусть отзовется, пусть покажет себя. Уж на что Арз был строптив и сварлив, но все же мне удалось много полезного затолкать в его седую упрямую голову. Так, может, и нынче найдется здесь человек, которого я мог бы чему-либо обучить? Вот был бы подарок от Бездонной!
Он смолк, прикрыл глаза, дожидаясь ответа. Стало так тихо, что осмелевшие скрипуны завели свое стрекотание, шныряя по ногам как бы окаменелых людей. Сидящие неподалеку от Лефа с интересом поглядывали на него, на валяющуюся рядом виолу; Ларда пихнула локтем в бок: «Ну, отзывайся!»
Леф молчал. Глупо все, незачем это. Что за игра с раненой-то рукой! И вообще… Единственного взгляда на самодовольную, лоснящуюся рожу Мурфа хватило, чтобы напрочь потерять желание петь для него. Может, наедине Леф и решился бы, а вот так, при всех — нет уж, обойдется старый спесивец без веселой забавы.
Ларда, грызя ногти, досадливо всматривалась в мрачное Лефово лицо. Ну и чего же он молчит, глаза прячет? Ведь такое только однажды в жизни случается, чтобы сам Родитель Веселья напрашивался учить! А этот глядит, как круглорог на вертел, и помалкивает. Оробел он, что ли? Вот промолчит, а потом с досады все пятки себе изгрызет…
Стараясь не обратить на себя внимание Лефа (чтобы не вздумал заупрямиться, помешать), Ларда дотянулась ногой до певучего дерева и легонько пнула его. Виола вскрикнула. Звук получился не слишком приятным для слуха, но достаточно громким, чтобы смог расслышать Великий Мурф. Глаза старого певца сверкнули:
— Голос струн! Правда, сперва мне подумалось, будто это треснул дырявый горшок… Но нет, нет, конечно же я услыхал голос струн. Покажись, неведомый мне певец! Покажись!
Ох, до чего же не понравился Лефу голос Точеной Глотки! Но деваться было некуда. Множество обернувшихся к нему лиц странно роднило одинаковое выражение напряженного, не слишком-то доброго интереса: ждал не один только Мурф, ждали все. Леф нехорошо помянул глупую Лардину выходку и поднялся. Во рту у него пересохло, колени дрожали, и вообще очень хотелось в единый миг оказаться где-нибудь подальше отсюда. Но Ларда уже подает ему виолу, а старый спесивец манит пальцем, улыбается с этакой родительской ласковостью. Ну, будь что будет…