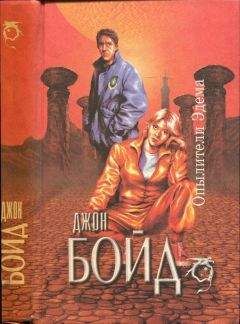— Примерно на четыре градуса! — воскликнула она. — Деталь настолько важная, что здесь не должно быть никаких «примерно». Сейчас же дайте мне точные цифры.
Удрученно кивая головой, Полино отправился в оранжерею рисовать график температуры. Неделя, окончившаяся четвергом 9 февраля, была на 3,8° теплее, чем следующая за ней. В пятницу не было выброшено ни одного семени.
В субботу у Хала был выходной, но она застала его, гибкого, с обнаженным торсом, за разметкой следующих клумб, которые мистер Хокада должен был вскопать в понедельник. Она вошла в помещение, чтобы сделать выписки для своей монографии, а когда вышла, увидела, что он уже закончил работу и вышагивает по расстеленной перед рядом А брезентовой дорожке, беспокойно озираясь, чтобы успеть заметить первые несущиеся по воздуху семена. Его встревоженное лицо вызвало у нее улыбку.
— Хал Полино, — крикнула она, — вы производите впечатление отца, ожидающего ребенка!
— Какой, к черту, отец, — взорвался он. — Меня всего ломает. Ни одна оса не сможет оценить по достоинству, через что проходит мужчина, чтобы произвести на свет ребенка. Какая сегодня температура, доктор?
— Двадцать четыре.
— Давай, поднимайся. Поднимайся! — вопил он, взывая к температуре воздуха, и шагал по дорожке со сложенными за спиной руками, то и дело наклоняясь и свирепо вглядываясь в тюльпаны. Он вдруг стал похож на старика.
— Где осы? — крикнула она, разворачивая надувной матрац.
— Тюльпаны держат несколько штук в резерве, видимо, на случай необходимости подать сигнал приземления остальному осиному флоту, который курсирует где-нибудь по соседству. На этой стадии игры они не нужны тюльпанам. Кроме того, их могут зашибить летящие семена. Но ничего не происходит.
В саду шевельнулся ветерок, и ряд В очень мелодично заиграл на флейтах.
— Они пытаются подбодрить вас, Хал.
— Лжецы, бездельники, сачки, — брюзжал он клумбам А, раскачивая тяжелые тюльпаны.
К двум часам дня температура упала еще на один градус, и от океана пришел фронт холодного влажного воздуха.
— Родов сегодня не будет, Хал, — крикнула она. — Разве что я сделаю кесарево сечение.
— Вы не акушерка, — крикнул он в ответ. — Кроме того, они рожают по восемь за раз четырьмя рядами.
— Вспомните умерший женский тюльпан. Растение выбросило их само.
Он подошел к ней вплотную и посмотрел сверху вниз.
— Дайте им еще один день, — сказал он.
— Полино, вы утверждали, что теми семенами растение целило в горшочек. Вот подходящий случай продемонстрировать прагматический эмпиризм. Чтобы сохранить ваш геометрический порядок, мы можем посадить сеянец на место вырванного цветка.
— Доктор, вы жаждете крови. В интересах науки вы готовы убить маленьких девочек.
— Полноте, Хал. Вы вроде бы питаете ненависть к этим созданиям.
— Доктор, в своей совокупности эти цветы меня не волнуют, но каждый цветок нравится мне как индивид.
— Тогда, памятуя о своем безразличии, вырвите из совокупности всего один.
— Рвите сами, — сказал он безучастно, — вы ведь жрица науки.
— А вы — мокрая курица, — обозвала она его одним из его же эпитетов двадцатого столетия и наклонилась над росшим на краю клумбы женским тюльпаном, чтобы вырвать цветок. Именно в тот момент, когда она вырывала растение из земли, из его воздушной камеры послышался вздох, похожий на мягкий хлопок далекого взрыва, точь-в-точь такой же, как она слышала, когда в тот вечер срезала пластинчатый лист с тогда еще живого женского тюльпана. Она вдруг порадовалась, что Полино, закрыв глаза руками, стоял в драматической позе вне пределов слышимости. Он написал бы целую диссертацию об этом звуке, положив его в основу разного рода легковесных теорий и бредовых домыслов, призванных доказать, что у этих растений есть эмоции.
— Дело сделано, — сказала она. — Уже можно открыть глаза.
— Убийство, отвратительное убийство, — воскликнул он, направляясь к тюльпану, который она положила на брезент. Вздувшийся стручок треснул по одной из бороздок для выброса семян, и сквозь трещину виднелось восемь расположенных в ряд крошечных зернышек, но стручок не подавал признаков жизни. Ногтями больших пальцев она раскрыла стручок по бороздке, чтобы лучше разглядеть их.
— Они выглядят не менее зрелыми, чем те — из погибшего цветка, которые недозрели, но дали всходы.
— Но она не выбросила их в предсмертных родовых муках, — недовольно проворчал он.
— То растение умирало медленной смертью, — сказала она.
— Вы правы, — согласился он. — И она знала, что умирает. Эта не ожидала смерти. Она вам доверяла.
— Я уверена, что, как только стебель станет подсыхать, семена начнут выстреливаться.
Он на минуту задумался:
— Когда я прореживал клумбы и складывал ростки в ведро, они не сохли… Слышите!
Легкий ветерок зашевелил сад, возбудив воздушные камеры тюльпанов, и те стали издавать чуть слышный шелест, который был подобен эху предсмертного вздоха вырванного ею женского цветка. Воздушные камеры многих тюльпанов зазвучали в унисон, и это звучание становилось все сильнее и делалось похожим на плач с оттенками жалости и грусти. Каждый тюльпан передавал этот звук соседнему, и вздох то разрастался, то затихал в завываниях печали и горя. Фреда подняла на Хала озадаченный взгляд, когда он медленно, без тени богохульства, а лишь с сожалением в голосе произнес:
— Господи!
Ветер стих, но звук все усиливался.
Он превратился в безысходное рыданье, и Фреда почувствовала, как ее коснулась печаль детства с его мучениями под вязами, пронизала какая-то квинтэссенция горя и жалости, острая и очень личная, но вместе с тем жгучая и поистине вселенская, словно это была печаль всех детей на свете. Ей казалось, что душа, подобно стелющемуся туману, втягивается в какие-то тоннели, ведущие в пустоту, где ее ожидает абсолютное ничто, не жизнь или смерть, не радость или боль, а лишь пустота вечности. А звук все усиливался и усиливался, он превращался в неизбывный вой по покойному, становился пульсирующей болью многократно умноженного страдания, и пустота разверзалась все шире и шире.
— Остановите их, Хал!
Он упал на колени и закричал, обращаясь к тюльпанам:
— Она не знала! Прекратите! Она не знала!
И звук пропал.
Фреда тяжело опустилась на брезент, ее трясло, голова упала на сложенные на коленях руки. Эхо страдания еще звучало в ее мозгу, когда над ней наклонился Хал.
— Я чувствую себя так, как в ночь смерти матери, — сказал он. — Они оплакивали умершую.