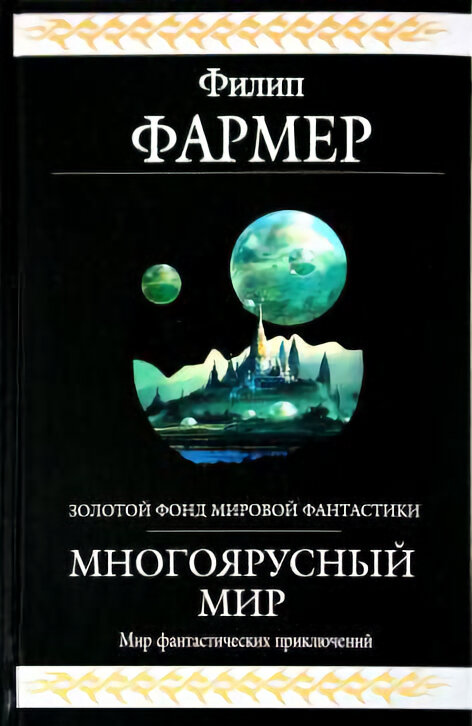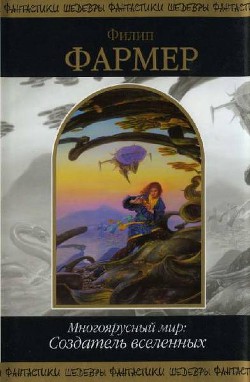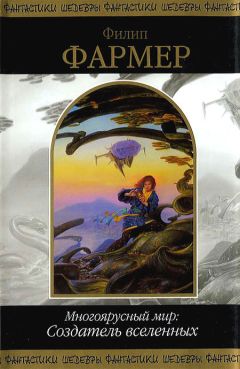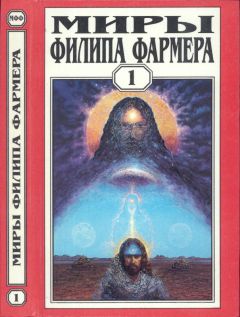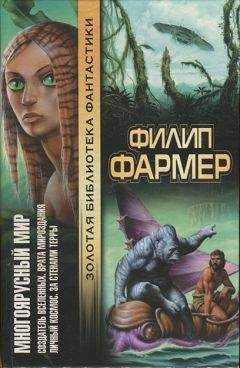И что Джим ожидал, то она ему и сообщила. Они с отцом уезжают в Техас через пять дней.
Он почувствовал, как подступают слезы, и сердце провалилось само в себя. Хотя Джим и подготовился к этому моменту — или думал, что подготовился, — его зацепило за живое. Но ему удалось закрыть клапаны и не дать слезам вылиться. Не станет он плакать при матери. Не хочет он, чтобы она рассказала отцу, как сын переживает. Эрик Гримсон только порадуется, узнав, что его сын — плакса.
Джим уже не спрашивал, почему не пришел отец. Он и так знал почему.
Трус!
Ева Гримсон ушла вся в слезах. Она пообещала, что будет переводить деньги на больничную страховку. И была уверена, что сможет посылать Джиму на одежду, учебники и прочие необходимые вещи. Отец обязательно найдет хорошую работу, только нужно набраться терпения.
— Я буду терпеть вечно, — крикнул он ей вслед, когда она плелась к лифту. — И вы будете вечно ждать меня в своем Техасе! Приеду, только если отец умрет!
Это было жестоко — но недостаточно жестоко для Джима в его состоянии.
Через несколько минут, когда он шел по коридору к себе, его остановила Санди Мелтон. Она сияла от счастья, не будучи перевозбуждена при этом. Ее маниакальные фазы смягчились благодаря терапии. И кроме того, сейчас у нее имелась причина быть счастливой. Она получила письмо от отца и хотела прочесть его Джиму.
В другое время он охотно разделил бы с ней ее радость. Но сейчас его злило, что кто–то другой может быть счастлив. И все–таки он победил свое раздражение.
— Папе дают работу здесь, в офисе компании! Вот слушай! «Дорогая Санди, моя самая любимая дочка». Хотя я же у него единственная. «Как я говорил тебе слишком много раз, я устал от коммивояжерских шуточек, и мне опостылело это дело». Это он про работу коммивояжера, а не про шутки. «Я бы еще смирился, будь я великим коммивояжером. Но я даже не надеюсь достичь таких высот, как св. Павел из Тарса, самый, пожалуй, великий из всех, как Чингиз–хан, который продавал смерть миллионам, как человек, продающий холодильники эскимосам, и как тот Вилли из пьесы Артура Миллера, хотя тот был велик только в борьбе с неудачами. Короче, мне предлагают стать начальником отдела сбыта в моей любимой, холодной, бессердечной фирме «Акме текстайлз“. Не думаешь ли ты, что я отвергну это предложение по каким–либо этическим, моральным, философским или финансовым соображениям? Подумай получше! Итак, дорогая моя дочь, я перехожу Рубикон, сжигаю за собой мосты и, вновь иду на штурм крепости, сиречь твоей бедной матери. Будь то в ясный полдень или в мрачную полночь, но мы раскроем наконец свои карты. Теперь у меня появилась возможность содержать ее, а будем ли мы жить отдельно или разведемся — пусть это решают Бог и ее скверный характер».
Санди запрыгала, размахивая письмом, как флагом победы.
— Ну, не молодец он? Ну, не чудо? Я знаю, что у него на уме. Развод!
Он преодолел свое чувство вины по отношению к ней — я бы тоже хотела и обязательно это сделаю, — и он будет теперь ночевать дома, и я тоже там буду!
Джим обнял Санди и сказал:
— Ну все, мне пора.
— Но я хочу отпраздновать это!
— О черт, Санди! Не хочу ранить твои чувства, но я просто не в состоянии! Извини. После увидимся.
И Джим устремился прочь — слезы угрожали хлынуть еще до того, как он доберется до своей комнаты. Санди крикнула вслед:
— Я могу чем–нибудь помочь, Джим?
Ее сочувствие и забота сработали, как нажатие на слезную кнопку. Джим разревелся, влетел к себе, захлопнул дверь и упал на стул, чтобы выплакать свое горе. Он предпочел бы броситься на кровать и зарыться лицом в подушку, но это было бы уж слишком по–женски.
Эта мысль пришла к нему посреди рыданий и включила эффект домино в его мозгу. Костяшки валились во мрак, и последней оказался совет, который дал когда–то Джиму его дед, Рагнар Гримсон.
— В норвежской культуре, а также в англо–американской, не принято, чтобы мужчины плакали. Закуси губы и все такое. А вот викинги, твои предки, Джим, плакали точно как женщины — и наедине с собой, и при людях. Они орошали бороды слезами и ни чуточки этого не стыдились. Зато так же скоро давали волю мечу, как и слезам. Так зачем вся эта бодяга насчет того, что мужчина, мол, обязан сдерживать свое горе и разочарование? Закусывая губы, они только наживают себе разные язвы, инфаркты и инсульты — я тебе точно говорю, старина.
Орк, как почти все тоаны, в одних ситуациях вел себя стоически, а в других не стеснялся плакать и стонать. Испытывая физическую боль, он не подавал виду. Но в радости или горе он орал, рыдал и злился, сколько душе было угодно.
Эта его черта представлялась Джиму положительной. Однако, если Джим перенял бы ее у Орка, в том времени и месте, где он жил, его сочли бы тряпкой. Какую бы силу характера ни почерпнул Джим у молодого властителя, ее все же недоставало — пока, во всяком случае — на то, чтобы до такой уж степени презирать общественное мнение.
Ко времени группового сеанса Джим почти справился со своим горем и гневом. По крайней мере ему так казалось, хотя он знал, что сильные эмоции — коварная штука. Спрячутся, а потом выскочат наружу, стоит только чему–нибудь открыть им дверь. Сейчас Джим думал, что если родители бросают его, то не от хорошей жизни. Надо же им как–то выбраться из нищеты. И совсем не их вина, что он не может поехать с ними. Ну, скажем, частично их. Но что им еще остается? А он уже достаточно большой, чтобы позаботиться о себе — когда пройдет терапию.
Тяжеленько будет браться опять за учебу, чтобы окончить школу со средним баллом хотя бы В–минус или С–плюс. А хорошо учиться в колледже, зарабатывая при этом себе на жизнь, будет еще тяжелее. Ну и что ж. Другие же это делают — притом не такие волевые и одаренные, как он.
Джим сам себе удивился. Иисус–Мария–Иосиф! Что это с ним? Не так давно он думал, что такому тупице, как он, вообще вовек не получить аттестат. А теперь нате вам — собрался в колледж, да еще намерен хорошо там учиться. Просто даже не терпится скорей приняться за учебу.
Ничего себе метаморфоза. Превращение. Насекомое за ночь