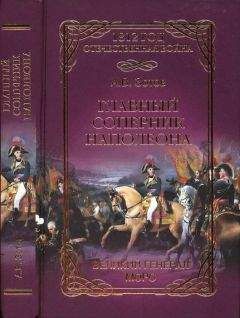Вдруг, на истоптанном месте, моим глазам представилась ужасная группа. Мой Сен-Бернар мертвым лежал на земле, а подле него на корточках сидела Гиена-Свинья, с наслаждением хрюкая и фыркая, и сжимала в ужасных когтях своих еще трепещущее тело противника. При моем приближении, чудовище подняло на меня свои сверкающие глаза и, закусив окровавленными зубами губы, грозно заворчало. Оно не оказалось ни испуганным, ни пристыженным, последние следы человечества исчезли в нем. Я сделал шаг вперед, остановился и вынул свой револьвер. Наконец-то, мы находились лицом к лицу.
Зверь не делал никакой попытки к бегству. Его шерсть ощетинилась, уши пригнулись, и весь он съежился. Я прицелился между глаз и выстрелил. В тот же момент чудовище громадным прыжком кинулось на меня и опрокинуло, как кеглю. Оно пыталось схватить своими безобразными когтями мою голову, но нерассчитанный прыжок унес его дальше, и я очутился как раз под всем его туловищем. К счастью, заряд попал в намеченное мною место, и чудовище испустило дух уже во время своего прыжка. С трудом освободившись из под его тяжелого тела, я поднялся, весь дрожа, и посмотрел на зверя, трепетавшего еще в последней агонии. Итак одной опасностью стало меньше; однако, это было только первое возвращение к своим прежним животным инстинктам из целого ряда других, которыя, по моему твердому убеждению, должны были произойти.
Я сжег оба трупа на куче хвороста. Теперь для меня стало ясна необходимость немедленно покинуть остров, так как моя гибель была не более как вопросом дня. За исключением одного или двух, все чудовища уже оставили овраг, чтобы устроить по своему вкусу берлоги среди чащи острова. Они редко бродили днем и большая часть из них спала от зари и до вечера, так что остров мог покачаться кому-нибудь из вновь прибывших на него пустынным. Ночью же воздух наполнялся их перекличками и воем. Мне пришла мысль о полном истреблении их — устроить западни и перерезать всех. Будь у меня в достаточном количестве патроны, я, ни минуты не колеблясь, принялся бы за истребление, зверей, так как кровожадных хищников оставалось не более двадцати, самые свирепые были уже убиты. После смерти моего последнего друга Человека-Собаки, я усвоил себе привычку в большей ни меньшей степени спать днем, чтобы ночью быть настороже. В моей хижине среди развалин ограды входное отверстие было настолько сужено мною, что в него нельзя было попасть, не производя значительного шума. Чудовища, к тому же, позабыли разводить огонь, и ими овладевала боязнь при виде пламени. Еще раз принялся я со страстью собирать и связывать колья и сучья для плота, на котором мог бы бежать, но встретил тысячу затруднений.
Во время прохождения мною учебного курса в заведениях еще не введена была система Слойда, и неловкость моих рук сказывалась на каждом шагу. Однако, так или иначе, после многих усилий мне удалось привести свое дело к концу, и на этот раз я особенно позаботился о прочности плота. Меня сильно смущало то обстоятельство, что мне придется плыть по редко посещаемым водам. Я попробовал изготовить себе немного глиняной посуды, но почва острова не содержала в себе глины. Напрягая все свои способности ума и стараясь разрешить последнюю задачу, я обошел остров со всех сторон, но без успеха. По временам на меня нападали припадки бешенства, и в такие минуты возбуждения я бесцельно рубил топором ни в чем неповинные пальмы.
Наступил ужасный день, проведенный мною в каком-то экстазе. На юго-западе показался парус как бы небольшой шкуны. Я немедленно развел громадный костер из хвороста, услышал грозное рычание и заметил блеснувшие белизной зубы животных, — невыразимый ужас овладел мною. Я повернулся спиною к ним, поднял парус и стал грести в открытое море, не смея вернуться.
Всю ночь продержался я между островом и рифами, затем, утром добрался до устья речки и наполнил пресной водою боченок, найденный в шлюпке. Потом, с терпением, на какое только был способен, я набрал некоторое количество плодов, подстерег и последними тремя зарядами убил двух кроликов… Во время моего отсутствия, из боязни к чудовищам, лодка оставалась привязанной к острому подводному рифу.
Вечером я уехал с острова; небольшой юго-западный ветерок гнал мою лодку, и она медленно подвигалась вперед в открытое море. Остров, по мере моего удаления от него, уменьшался все более и более, и, наконец, одни только спиральные струйки дыма вулкана на фоне неба, залитого лучами заката, выдавали его присутствие.
Так блуждал я по морю в продолжение трех дней, расходуя с чрезвычайною бережливостью еду и воду.
На третий меня меня приняли на бриг, который шел из Азии в Сан-Франциско; ни капитан, ни его помощник не хотели верить моей истории, думая, что мое долгое одиночество и постоянные страхи лишили меня рассудка.
Тогда, боясь, что того же мнения будут держаться и другие люди, я старался избегать рассказов о своих приключениях и решил совершенно не вспоминать о происшедшем со мною после кораблекрушения судна «Dame Altière» и до того момента, когда я был взят на бриг, т. е. вычеркнуть из свой памяти целый год своих мытарств. Мне приходилось действовать с чрезвычайною осмотрительностью, чтобы не быть принятым за помешанного. Меня часто посещали воспоминания о Законе, о погибших двух моряках, о трупе в чаще камышей. Наконец, как ни мало естественным может показаться это, тем не менее, при мысли о возвращении в общество себе подобных, я, вместо рассчитываемой спокойной жизни и доверия среди людей, почувствовал в сильнейшей степени тот смутный страх, который беспрерывно мучил меня во время пребывания моего на острове.
Никто не хотел мне верит, и я таким чуждым казался для людей, каким был в свое время для людей-животных; к тому же, у меня, без сомнения, сохранились некоторые природные узкости моих прежних сотоварищей.
Говорят, что страх есть болезнь; хотя бы это и было так, я могу, теперь спустя несколько лет, уверить, что постоянное беспокойство подобно тому, какое может испытывать полуукрощенный львенок, смущает мой дух. Оно принимает самую различную форму.
Я вижу лица мрачные и оживленные, пасмурные и страшные, быстрые и лживые, и нет ни одного с выражением спокойствия разумного существа. А между тем, я не могу помешать себе стараться не встречаться с ними, избегать их любопытных взглядов, вопросов, помощи, я мне хочется снова удалиться от них и остаться наедине с самим собою.
По этой причине я живу теперь подле пустой широкой равнины, где могу уединиться, когда такие сомнения нисходят в мою душу. Тихо бывает тогда в громадной пустынной равнине. Во время жизни в Лондоне мое чувство страха было для меня невыносимо. Я не мог избегать людей; их голоса слышались через окна, и запертые двери служили лишь ничтожною предосторожностью; я выходил на улицу и боролся с моими иллюзиями, но мне казалось, что женщины кругом меня мяукали, голодные украдкою бросали на меня завистливые взгляды; бледные и изнуренные рабочие, покашливая, с опущенными вниз глазами, проходили мимо тяжелою поступью, подобно раненым животным, теряющим свою кровь. Старцы, сгорбленные и пасмурные, ворча сквозь зубы, шли по улицам и равнодушно относились к высмеивающим их ребятам. Когда же я входил в какую-нибудь часовню, и там повторялось то же самое.