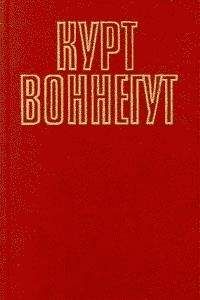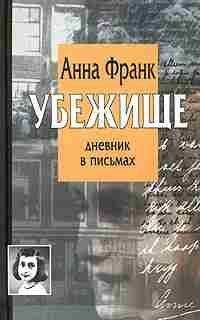Кроме всего прочего, он был еще и убийцей. Убийство это совершено было при следующих обстоятельствах:
Как-то раз один жирный плутократ подцепил его в баре на острове Манхэттен, где Уэйт промышлял проституцией, завязав разговор вопросом, знает ли тот, что с его замечательной новой рубашки из голубого велюра не спорот ценник. В венах плутократа текла королевская кровь!
То был принц Хорватии-Словении Ричард, прямой потомок английского короля Джеймса Первого, германского императора Фридриха Третьего, австрийского императора Франца-Иосифа и французского короля Людовика Пятнадцатого. Ему принадлежал антикварный магазин на Мэдисон авеню, и гомосексуалистом он не был. Он хотел, чтобы молодой Уэйт стягивал на его шее шелковый пояс от халата, подводя его вплотную к гибельной черте, а затем ослаблял петлю.
У принца Ричарда были жена и двое детей, которые находились в тот момент на отдыхе в Швейцарии, катаясь на лыжах, и жена его была еще достаточно молода, чтобы сохранять способность к зачатию, – так что молодому Уэйту, возможно, суждено было помешать рождению еще одного носителя благородных генов.
И еще: не будь принц Ричард тогда умерщвлен, Бобби Кинг, быть может, пригласил бы и его с супругой принять участие в «Естествоиспытательском круизе века».
* * *
Его вдове предстояло стать весьма удачливым модельером галстуков – под именем «принцессы Шарлотты», – хотя она была дочерью простолюдина, кровельщика со Стейтен-Айленд, и не имела права на титул или использование родового герба мужа. Тем не менее изображение его геральдического щита украшало каждый придуманный ею галстук.
В гардеробе покойного Эндрю Макинтоша имелось несколько галстуков от принцессы Шарлотты.
* * *
Уэйт распял этого борова голубых кровей на безбрежной кровати с балдахином, некогда принадлежавшей, по словам принца, матери венгерского короля Иосифа Первого, Элеоноре из Палатинате-Нойбурга. Уэйт привязал его руки и ноги к толстым угловым столбам, на которых покоился балдахин, с помощью загодя нарезанных нейлоновых шнуров нужной длины. Последние хранились в секретном выдвижном ящичке, скрытом под бахромой в ногах кровати. Ящик был также старинным и когда-то хранил любовные тайны Элеоноры.
– Привяжи меня хорошенько, потуже, чтобы я не мог вырваться, – наставлял Ричард молодого Уэйта, – но смотри не перетяни мне сосуды. Я бы не хотел заработать гангрену.
Его излишне большой мозг на протяжении последних трех лет не реже раза в месяц толкал его на подобные забавы: нанимать незнакомых людей, чтобы те слегка его придушили. Какая игра в выживание!
* * *
Принц Хорватии-Словении – возможно, под взглядами теней своих предков – объяснял молодому Джеймсу Уэйту, что тот должен придушить его настолько, чтобы он потерял сознание. После чего Уэйт, которого он знал как «Джимми», должен был начать медленно считать следующим образом: «Тысяча один, тысяча два…» и так до двадцати.
На глазах, быть может, короля Джеймса, императора Фридриха, императора Франца-Иосифа и короля Людовика принц, один из нескольких претендентов на югославский трон, предупредил «Джимми», чтобы тот не прикасался к его телу или одежде, не считая затянутого вокруг шеи пояска. При этом он должен был испытать оргазм, но «Джимми» запрещалось ускорять приближение этого момента с помощью рта или рук. – Я не гомосексуалист и нанял тебя как своего рода слугу, а не проститутку, – объяснил принц. – Тебе, возможно, трудно в это поверить, Джимми, – особенно если ты ведешь такой образ жизни, какой я думаю, – но для меня это духовное переживание, так что пусть оно останется духовным. Иначе никаких тебе ста долларов. Я ясно все сказал? Я человек необычный.
* * *
Он не стал рассказывать Уэйту, что в его большом мозгу прокручивается, пока он лежит без сознания, целая кинолента. В этих видениях ему представало отверстие некой голубой извивающейся трубы, метров пяти в диаметре – достаточно широкой, чтобы по ней мог проехать грузовик, и сияющей изнутри, точно воронка смерча. Но не ревущей – в отличие от последнего. Вместо этого из дальнего конца трубы, находившегося, как казалось, метрах в пятидесяти от начала, доносилась неземная музыка, подобная звуку стеклянной гармоники. В зависимости от извивов трубы принцу Ричарду удавалось мельком разглядеть по ту сторону какую-то золотую светящуюся точку и нечто, напоминавшее зелень.
Это, разумеется, был туннель в загробную жизнь.
* * *
Итак, Уэйт, как ему было ведено, заткнул рот кандидата в освободители Югославии маленьким резиновым мячиком и запечатал сверху заранее заготовленным обрезком клейкой ленты, приклеенным к опоре балдахина.
Затем он начал затягивать пояс на шее принца, перерезая доступ крови к мозгу и воздуха – к легким. Однако вместо того, чтобы – после того, как принц потерял сознание, испытал оргазм и увидел извивающуюся голубую трубу, – сосчитать до двадцати, он медленно досчитал до трехсот. То есть выждал пять минут.
Он поступил так под влиянием идеи, пришедшей в его большой мозг. Не то чтобы Уэйт сам этого захотел.
* * *
Если бы его отдали под суд за убийство, или лишение человека жизни – или как там у государства могло называться его преступление, – то он, вероятно, сказал бы в свое оправдание, что с ним произошло временное помрачение рассудка. Он бы утверждал, что его большой мозг попросту на время отказал ему. Миллион лет тому назад не было на земле человека, которому это бы не было знакомо.
Признания во временном отказе умственных способностей составляли основное содержание всех разговоров: «Виноват»… «Прошу извинить»… «Надеюсь, я вам не повредил»… «Сам не верю, что мог такое сделать»… «Все произошло так быстро, что я и сообразить не успел»… «Я думал, что застрахован от подобных поступков»… «Никогда себе не прощу»… «Я не знал, что оно было заряжено»… и так далее, и тому подобное.
* * *
Когда Уэйт понял, что нужно давать деру из этой трехкомнатной квартиры на Саттон-плэйс, расшитые гербами сатиновые простыни принца были забрызганы спермой – множеством головастиков королевского рода, наперегонки спешащих в никуда. Он ничего не прихватил, уходя, и не оставил отпечатков пальцев. Швейцар в подъезде, видевший, как он входил и выходил, смог немногое сообщить полиции о внешности Уэйта: лишь то, что тот был белокожий и худощавый молодой человек, одетый в голубую велюровую рубашку с неспоротым ценником.
В образе миллионов королевских головастиков на сатиновой простыне, бесцельно стремящихся неизвестно куда, было также нечто пророческое. Весь мир, за исключением Галапагосских островов, в отношении человеческого семени должен был вскоре стать подобием такой простыни.