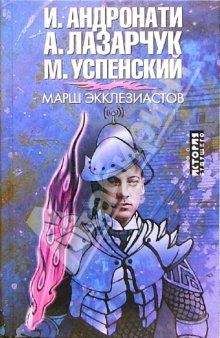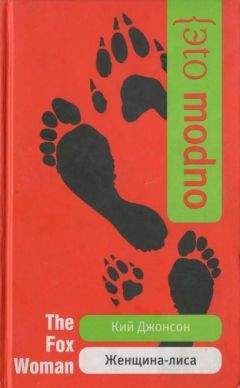— Что такое — Михна? — вскинулся монах. Успокоенные верблюды тронулись дальше.
— Ну, такие… Ну, за чистотой веры следят, — тут Отец Учащегося даже оглянулся: не следят ли его гонители за чистотой веры и здесь, в безлюдных песках.
— Святая Инквизиция, — догадался брат Маркольфо. — Куда же без неё? Нет, у меня всё проще. Был за мной грех: я тоже сложил виршу, но, боюсь, не поймёшь ты её — она на классической латыни…
— Как-нибудь разберу, — пообещал хитроумный сын Сасана.
Разбирать особенно было нечего: вирша по большей части состояла из одного-единственного латинского глагола, зато уж спрягался этот глагол по-всякому: и так, и этак, и вот этак, и сверху, и снизу, и сбоку, и туда, и сюда, и даже эвон куда… С преступной помощью этого глагола последовательно осквернялись ангелы и архангелы, короли и шуты, графини и герцогини, дворяне и земледельцы, монахи и монашенки, епископы и ремесленники со всеми членами семей и даже животные. Слегка повезло только майскому жуку, которому всего-навсего вставили соломинку…
Добродетельные верблюды остановились так резко, что всадники чуть не полетели на песок.
— Да-а… — сказал наконец Абу Талиб. — С такими стихами, садык, даже в зиндан не возьмут… Не доведут до зиндана…
— Но теперь я остепенился, — поспешил заверить его монах-бродяга. — Похабщины не пишу, а размышляю о вечном.
— Могу представить… — усомнился Сулейман.
— Не веришь? Так послушай:
Был я праздным и лихим —
Знать, таким родился.
Сильной жаждою томим,
Я в кабак стремился.
Но, узрев огонь и дым,
Страшно удивился:
Шестикрылый серафим
Предо мной явился!
«Я затем явился здесь
Весь в грозе и буре,
Что Господь не в силах снесть
Твоей буйной дури.
Приказал Всевышний днесь,
Грозно брови хмуря,
Измененья произвесть
Мне в твоей натуре!»
В ухо мне ударил он
Тяжкою десницей,
Как селянину барон
Стальной рукавицей.
Полетел я, поражён,
Бестолковой птицей
В мир, что был мне отворён
Новою страницей.
Слышу я, как в облаках
Ангелы летают,
Как снега и льды в горах
Потихоньку тают,
Как в миланских кабаках
Кьянти разливают,
Как сквозь всякий тлен и прах
Травы прорастают.
Снова слышу трубный глас:
«Ах ты сын собаки!
Ты в грехе сплошном погряз,
Это скажет всякий!»
И крылом — да прямо в глаз,
Как в кабацкой драке!
Я фонарь обрёл тотчас,
Чтобы зреть во мраке.
Тьма была — хоть глаз коли,
Но необъяснимо
Я увидел край земли
Оком пилигрима:
Как в лазоревой дали
Мимо храмов Рима
Проплывают корабли
До Иерусалима.
Обратившись к небесам,
Господа я славил…
…Серафим же по зубам
Малость мне добавил!
Научил меня азам
Красноречья правил
И пророчествовать сам,
Лично, в мир отправил.
И тотчас же я предстал
Цицероном новым:
Серафима я назвал
Нехорошим словом,
Далеко его послал —
Аж к первоосновам, —
И беспечно зашагал
С именем Христовым.
И с минуты самой той
В жизни тяжкой, тленной
Всё открыто предо мной
В нынешней Вселенной.
Лишь один вопрос простой
Мучит, неизменный:
То ль угодник я святой,
То ли червь презренный?
— А ещё я перелагаю в стихи медицинские рецепты против геморроя и водянки…
— Так ты ещё и табиб?
— Всего помаленьку, — скромно сказал монах. — Немного бродяга, немного лекарь, немного пиита…
— Немного мошенник, — подхватил Абу Талиб. — Истинный сын Сасана, страж Ирема! Будет у нас ещё время посостязаться, как приедем в Багдад…
— Или Иерусалим…
— Верно, или Иерусалим. Куда-нибудь верблюды нас привезут. И вот тогда ты увидишь, каков на деле Сулейман Абу Талиб аль-Куртуби! В поэзии рядом со мной не стой, это само собой, но и в искусстве обмана я первый среди детей Сасана! Правда, толкуют ныне о некоем Наср-ад-Дине — это самый тот, что в Бухаре живёт. Коли он дорогу мне перейдёт, он этот день проклянёт. Ведь я провёл самого Абу Наиби, шайтан его зашиби! Был он первый гад на весь Багдад, а повстречался со мной — сразу стал только второй… Не нарушая наших сасанских правил, я его в фияль трижды обставил и без языка оставил… Поверишь едва ли, но мы на усечение языка играли!
— Постой, брат, — сказал монах. — Если только не подводят меня глаза, впереди кто-то идёт…
— Ну вот, — недовольно, как все внезапно разбогатевшие, скривился Отец Учащегося. — Будем теперь сочувствовать всякому нищеброду, тратить на него воду…
— Господу — что нашему, что вашему — угодно милосердие, — сказал монах и придавил верблюжьи бока пятками.
— Надеюсь, это мирадж… Аллах, пусть это будет мирадж!
Но не был это мирадж, а был это гнусный вонючий бродяга, до самых линялых бровей заросший щетиной. По сравнению с тряпьём бродяги даже рубище брата Маркольфо казалось царским облачением. А глаза у него были прямо-таки бирюзовые, самые колдовские. Его бы хлыстом по этим самым глазам, но смиренный монах сказал:
— Кто ты, добрый человек? Куда идёшь? Почему терпишь нужду?
В ответ бродяга забормотал что-то невнятное, такое невнятное, что не только монах, но и эмир языка Сулейман не смог разобрать. Тем не менее брат Маркольфо протянул бедняге свою верную баклагу.
…Судьба, судьба — и наковальня, и молот!
Жизнь всё время отвлекает наше внимание; и мы даже не успеваем заметить, от чего именно.
Франц Кафка
— И этого языка я тоже не знаю… — сокрушённо сказал Шаддам. — Никогда не предполагал, что могу оказаться в таком положении.
Уже несколько сот свитков валялись просмотренными и отброшенными за ненадобностью, когда Николай Степанович вдруг встал и начал озираться — будто увидел всё это впервые. Костя и Шаддам немедленно прекратили разбор завала и сделали по полшага к маршалу — вдруг, не дай бог, у него опять потеря памяти или там ориентации…
— Ребята, — Николай Степанович поднял палец, как бы призывая к ещё большей тишине. — А вам не кажется, что эту кучу здесь свалили не просто так? Кому-то они и до нас оказались не по зубам? А?
— Ну, точно! — сказал Костя. — Тоже искали что-нибудь знакомое. Так. Брали вот из этих шкафов… вот там, под светом, читали, сюда откидывали. Потом стали таскать по лестнице и бросать сверху… насыпать кучу…
— Попробуем заглянуть в дальние шкафы? — предложил Шаддам. Нойда молча вильнула хвостом и устремилась в указанном направлении.
В этот момент стемнело. Солнце ушло с небесного круга, уступив место облачной пелене.