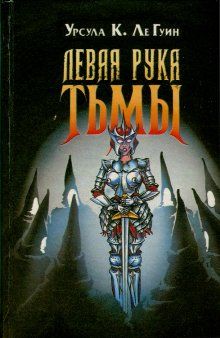Охранники, приземистые и крепкие, провели меня по коридорам и оставили в маленькой комнате, очень грязной и ярко освещенной. Через несколько минут прибыла еще одна группа охранников как эскорт человека с худым лицом и властным выражением. Он отпустил всех, кроме двоих. Я спросил его, можно ли мне связаться с сотрапезником Оболе.
— Сотрапезник знает о вашем аресте.
Я глупо повторил:
— Знает о нем?
— Мои начальники действуют, конечно, по приказу Тридцати Трех. Вы подвергнетесь допросу.
Охранники взяли меня за руки. Я сопротивлялся, гневно говоря:
— Я и так могу отвечать на ваши вопросы, оставьте ваши запугивания!
Узколицый человек не обратил внимания на мои слова, только позвал других охранников. Вошли еще трое. Меня привязали к столбу, раздели и ввели какое-то вещество, вероятно, заставляющее говорить правду.
Я не знаю, долго ли продолжался допрос и о чем меня допрашивали, потому что все время находился под действием наркотиков и ничего не помню. Придя в себя, я мог лишь предположить, сколько времени меня продержали в Кундершадене — четыре или пять дней — судя по физическому состоянию, но я не был уверен в этом, и не знал, какой сегодня день и какой месяц, я вообще очень медленно начинал воспринимать окружающее.
Я находился в грузовике, очень похожем на тот, что вез меня через Кархид в Рер, но на этот раз не в кабине, а в фургоне. Со мной было двадцать или тридцать человек — сколько именно, сказать трудно, поскольку в фургоне не было окон и свет пробивался только в узкую щель в двери, забранной толстой стальной решеткой. Должно быть, мы уже ехали некоторое время, когда я пришел в себя. У каждого было свое место, а запах экскрементов, рвоты и пота достиг высшей концентрации и больше не увеличивался и не уменьшался. Все были незнакомы, никто не знал, куда нас везут. Разговоров почти не было. Вторично я был заперт в темноте с потерявшими надежду жителями Оргорейна.
В первую ночь моего пребывания в этой стране я получил предупреждение, но проигнорировал его.
Я чувствовал, что грузовик движется на восток, и не мог избавиться от этого ощущения, даже когда стало ясно, что он движется на запад, все дальше углубляясь в Оргорейн. Ощущение направления и влияния магнитных полей сказывается по-разному на разных планетах, и когда разум не может компенсировать это различие, появляется впечатление, будто все буквально перевернулось.
Один из запертых в фургоне ночью умер.
Его били дубинками или ногами в живот, и у него шла кровь изо рта и ушей.
Никто ничего для него не сделал, да и делать было нечего. За несколько часов до этого к нам просунули пластиковый кувшин с водой. Но кувшин этот давно был пуст. Умирающий оказался моим соседом справа, и я положил его голову к себе на колени, чтобы ему было легче дышать. Так он и умер.
Все мы были обнажены, и мои руки, ноги и бедра покрылись кровью.
Становилось холоднее, и мы жались друг к другу, чтобы согреться. Поскольку труп не давал тепла, его оттащили в сторону.
Всю ночь мы теснились, раскачиваясь вместе, когда грузовик подскакивал на неровностях дороги. За нами не было других грузовиков. Даже прижавшись лицом к решетке, ничего нельзя было разглядеть, кроме тьмы и смутного ощущения падающего снега.
Падающий снег, вновь выпавший снег, давно выпавший снег, снег после дождя, снег, схваченный морозом. В орготском и кархидском языках были особые слова для каждого вида снега. В кархидском — я знал его лучше орготского — можно насчитать шестьдесят два различных слова, обозначавших снег. Имеется много слов для обозначения различного вида льда, свыше двадцати обозначений разных типов осадков. Я сидел, стараясь мысленно составить списки этих слов.
Каждый раз, вспоминая новое слово, я пересматривал записи, вставляя его на нужное по алфавиту место.
Прошло немало времени после рассвета, когда грузовик остановился. Заключенные закричали в щель, чтобы из фургона убрали труп. Мы били кулаками в дверь, в стены, превратив внутренность стального ящика в такой гремящий ад, что сами не могли выдержать. Никто не пришел. Грузовик простоял несколько часов. Наконец снаружи послышались голоса, грузовик дернулся, скользя по обледенелым камням дороги, и двинулся дальше. Через щель в двери можно было рассмотреть солнечное утро и лесистые холмы вдоль дороги.
Грузовик шел еще два дня и три ночи — всего четыре со времени моего пробуждения.
Он не останавливался у инспекторских постов, мне кажется, ни разу не проезжал через города или поселки. Путь его был окольным. Он притормаживал, чтобы сменить батареи или шофера. Были и более долгие остановки, причину которых изнутри фургона установить было невозможно. Два дня грузовик двигался при свете, а потом — только ночью.
Однажды через дверцу в большой двери просунули кувшин с водой.
Вместе с мертвецом нас было двадцать шесть, два раза по тринадцать. Гетенианцы часто считают по тринадцать, двадцать шесть и пятьдесят два. Несомненно, из-за двадцатишестидневного лунного цикла, составляющего неизменный месяц и приблизительно соответствующего их половому циклу. Труп был отброшен к решетке, которая образовывала заднюю стену нашего ящика.
Остальные сидели или лежали каждый на своем месте, на своей территории, в своем домейне до ночи. Когда становилось холодно, мы постепенно сближались, образуя единую группу, в середине ее было тепло, а по краям холодно.
Доброта. Я и некоторые другие — старик, человек со зловещим кашлем — хуже всех сопротивлялись холоду, и каждую ночь мы оказывались в центре группы, где было теплее.
Мы не дрались за теплые места, мы просто оказывались в них каждую ночь.
Ужасно, что человек не теряет добро. Мы оказались обнаженными во тьме и холоде, и нам нечего было дать друг другу, кроме доброты.
Несмотря на скученность и на то, что но ночам жались друг к другу, мы не сходились, не сближались друг с другом. Некоторые были одурманены наркотиками, другие казались умственно дефективными, все были оскорблены и испуганы, но может показаться странным, что среди двадцати пяти человек никто не разговаривал, даже не ругался. Доброта и терпимость, но все в молчании, всегда в молчании. Стиснутые в зловонной тьме, мы постоянно сталкивались друг с другом, падали друг на друга, наше дыхание смешивалось. Я так и не узнал, как зовут моих спутников. Мы оставались чужими друг другу.
Однажды — мне кажется, это было на третий день, когда грузовик надолго остановился и я подумал, что нас бросили в холодной пустыне — один из них заговорил со мной. Он рассказал мне длинную историю о фабрике в Южном Оргорейне, где он работал, и как поссорился с надсмотрщиком. Он говорил мягким, тусклым голосом и держал меня за руку, как бы желая привлечь внимание. Светило солнце, и мы стояли на обочине дороги, и один солнечный луч неожиданно пробился в щель, стало светло.