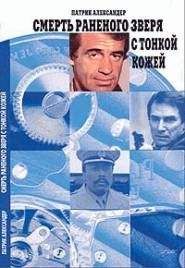И все же в их общем мышлении установилось соображение, что они могут выйти из лабиринта, не поворачивая назад, не возвращаясь в Чистилище, а продвигаясь вперед.
«Интересно, какое оно впереди – самое пекло, раз уж это считается Адом?»
«Чистилище и Ад – условные обозначения, да и нет их, может быть, вовсе… Если по-настоящему, по-научному думать». – «А если не по-настоящему? Они, вероятно, другие, да?» – «Какие?» – «Не знаю. На меня тоже это ощущение, что и на вас, давит, я тоже плаваю в представлениях стен и тварей за ближним поворотом».
А дальше стали происходить вовсе уж трудновообразимые вещи. Их сознание стало почти раздельным, каждый ощутил себя суверенной личностью, хотя машина на пси-связях объединяла их по-прежнему. Но это общее сознание у них вдруг рассыпалось или отделилось от них, причем каждый продолжал оставаться собой, но их коллективное мышление вплелось во что-то трудноопределимое и вышло далеко вперед, совершенно без напряжения преодолевая те стены, которые они по-прежнему видели на экранах машины вокруг себя.
Происходило раздвоение мышления и совершенно неудержимое расширение впечатлений. От этого даже становилось больно, только не физически и даже не психически, а самой душе, хотя и не всей, а лишь какой-то высшей ее части, как если бы душа имела свои органы, подобные, в грубом приближении, частям и органам тела… И общемышление их, совокупная их способность думать и переживать – вдруг…
Они будто бы этим выделенным из себя состоянием духа вышли наконец-то из лабиринта. То есть сам лабиринт не пропал, стены по-прежнему оставались, но между ними неожиданно развернулось пространство, огромное, залитое каким-то красновато-оранжевым светом, будто дикое, ненастоящее, нечеловеческое солнце взошло под этими сводами.
И где-то неподалеку, хотя еще и не очень различимо, стали ощущаться… Да, их было очень много. Это были чужаки. Некоторые из этих существ их почувствовали. Твари двинулись к ним, но еще не совсем, не слишком быстро, а лениво, неуверенно-замедленно. Будто и не собирались с ними воевать, не стремились их непременно сожрать и уничтожить.
«Демоны это, а не чужие», – решила Гюль и сама же испугалась этой мысли, потому что будто говорила не она, находясь в машине, а нечто от нее далекое, и совсем для этого соображения не приспособленное, словно собственный палец вдруг принялся с ней разговаривать о смысле чужих рас.
И в этом чудесном, незнакомом и очень-очень сложном их состоянии они вдруг еще каким-то совсем уж малым кусочком сознания поняли-придумали-ощутили – и это впечатление было весьма стойким, – что оранжевый свет, как раскаленная плазма Солнца, выжигает в них… какие-то чувства, страхи, страсти и лишние, болезненные переживания. Они будто бы очищались тут, хотя и не понимали, зачем, почему и как это происходит.
И еще: свет этот, или пламя, в котором они все же не сгорали до конца, сообщал их общей душе и общемышлению что-то такое… чего, пожалуй, они и удержать в себе как знание не могли, не были к этому способны. Они узнавали новое, и тут же оно уходило, утекало, как свет, который, конечно, невозможно удержать в ладонях, и было жалко, безмерно печально, что он утекает, потому что знание это было прекрасным и полным, едва ли не совершенным!
Так вот они и подвисли в этом мире, враждебном и замечательном одновременно, с ощущением невероятного понимания и знания в душе, с болью, но и при продолжающемся каком-то невероятном совершенствовании, едва ли не в потоке прозрачного прозрения, узнавания чего-то, о чем они прежде и не подозревали. Гюльнара сразу же решила, что никогда не сумеет изложить это состояние в рапорте словами, хотя придется, конечно. Но только безнадежно было это рассказать по-человечески, даже на русском, одном из самых совершенных и приспособленных для описания языков. Пояснить всем, кто этого не испытывал, было невозможно. По-своему, на природном тюркско-корневом языке, ей и думать об этом было невмоготу.
А потом их общее сознание, как шарик света, все уменьшающийся, быстро, проходя через стены, стало возвращаться к ним, к каждому по отдельности и к экипажу в целом. Оно, это странное сознание, ушедшее от них, вернулось с хлопком, будто какой-то огромный кит поднялся всей своей невероятной тушей над морем, а потом с брызгами, громовым плеском и волнами – снова обрушился в воду… Это было бы красиво, если бы так не оглушало, если бы не встряхнуло их, словно они сами находились внутри этого разыгравшегося кита. Странно это все было, непонятно. Неописуемо!
Они стали приходить в себя. Первым вернулся к сознательной активности командир, он высказался тоже, впрочем, довольно неожиданно: «Не пойму толком, но за стеной… Не только демоны, а что-то еще, кажется, живое». – «Живой лабиринт?» – «Ага, мы в кишечнике космической черепахи…» – бросил свое соображение на общее обдумывание Тойво. Возможно, он пытался пошутить, но не очень-то удачно у него вышло.
«Поменьше фантастики, исследователи. А вообще-то, пора уже…»
«Всегда рад возвращаться». – Да, сегодня Тойво был определенно не в себе. Впрочем, как все они.
«Вперед тут не пройти, мы слишком далеко отошли от входа. Но я представляю, как искать выход, может, еще короче получится». Гюль спрашивала себя, озвучивая эту идею для общего прочувствования: а не получится ли, что ей лишь кажется, на послеэффекте от того оранжевого света, что она знает, к примеру, этот кратчайший выход из лабиринта? Возможно, она все еще загипнотизирована тем состоянием общей и далекой души? А дело-то было серьезным, если она ошибается, они вполне могут попасть туда, где твари роились, словно мошкара в болотистой тайге… О чем и думать не хотелось. И ребята ей были слабыми помощниками.
Командир действительно вдруг ослабел, даже управление не контролировал и не поддерживал Гюльнару, а Тойво работал, вбрасывая в топку резонаторов последние капли своего пси, хорошо еще, что надежного, но все же последние. Очень скоро могло получиться так, что он не сможет питать своей витальной энергией машину, и тогда они повиснут в этом лабиринте без сил, без энергии, как жертвы, – приходи и кушай их со всем удовольствием!
Она заторопилась, пока не поняла, что и сама уже находится на исходе сил. А ведь не заметила, что вырабатывает из себя какие-то уже потаенные, неявные запасы энергии, может быть, действуя вопреки всему, что ей отпущено природой, оказавшись далеко за красной линией перерасхода пси, ну, то есть если бы такие приборы у них были. Она посмотрела на показатели их взаимодействий, они все горели на жидкокристаллическом экранчике с внушительными красными минусами, и решила больше в ту сторону не смотреть и тем более не вникать в цифры.