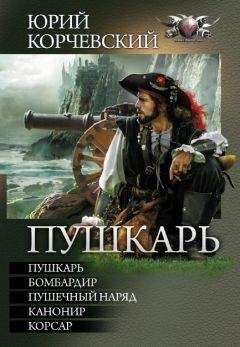У деда оказалась нагноившаяся рана в области бедра. Оказалось – ударила копытом лошадь. Я вскрыл гнойник, выпустив гной, рану зашивать не стал, пусть очистится. Сделав перевязку, встал, показав жестом, что хочу помыть руки. Татарин что-то прокричал. Вошла женщина и поманила меня за собой. Рядом с юртой из медного кувшина я вымыл руки. Так же молча меня завели в соседнюю юрту, усадили на пол, дали в руки кусок вареной баранины и лепешку. Я с жадностью накинулся на еду. После еды попил воды и, прижав руку к сердцу, поблагодарил за угощение. Все общение на стоянке пастухов свелось к жестам, русского татары не знали, как и я татарского. На обратном пути я размышлял о том, что надо бы учить татарский, хотя бы на разговорном уровне, чтобы общаться с больными.
На следующий день история повторилась, правда, мы пошли на другое стойбище. Сопровождал меня прежний татарин. По пути туда и обратно я показывал на предметы – татарин лопотал по-татарски, я старательно пытался повторить.
Каждый день я проходил по многу километров в сопровождении татарина, учась потихоньку языку. Иногда татарин был зол и ехал молча. Работал я за еду и, хоть похудел, выглядел все же лучше русского раба на дворе у мурзы. Когда я узнал, сколько ему лет, я был поражен. Он был моложе меня, было ему тридцать лет. Но выглядел он почти стариком.
Наступила осень, стало прохладно. Я начал замерзать по ночам под навесом с лошадьми. Обращаться к мурзе было бесполезно, я видел, как обращаются с рабами. Понемногу меня стали узнавать на стойбищах, и хотя я не умирал от голода, есть хотелось постоянно, а теперь стал одолевать холод. Как-то на одном стойбище мне за работу из жалости кинули старый стеганый зимний халат. Был он дыряв, цвета неопределенного, из многочисленных дыр торчала вата, но я и ему был рад. С тревожным ощущением ожидал я грядущей зимы – у меня не было теплой обуви и шапки, тело укрывал ветхий халат. Я не мог согреться даже у печки – ее у меня не было, а в дом меня не пускали. Постепенно строгий режим охраны смягчился. На недалекие стойбища я уже ходил сам, зная дорогу по предыдущим посещениям. Худо-бедно овладевал языком, прислушиваясь, как разговаривают татары, запоминал незнакомые слова и при случае спрашивал их значение.
Общаться с больными стало легче, но смотрели на меня как на раба – грамотного, полезного, но жизнь моя по-прежнему не стоила ничего. Во время своих пеших походов я вынашивал мысли о побеге, но понимал их бесплодность. Я не знал, где нахожусь, у меня не было продуктов, и я был слаб от постоянного недоедания, у меня не было оружия для защиты или охоты для пропитания. Побег мой пока не был готов, но мысли о нем я не оставлял. Ночами я с тоской вспоминал счастливые дни с Настенькой, полную самоотдачи работу в госпитале, открывавшиеся перспективы работы в Москве. Все это уже в прошлом, как в туманном сне. Вернусь ли я снова в свои, ставшие для меня дорогими места или сгину в неизвестности по прихоти неграмотного татарского пастуха или мурзы? Тяжело было на душе, а более всего мучила неизвестность.
В один из дней, когда я пришел в стойбище и зашел в юрту к больному, поздоровался и протянул руки к очагу, жарко горевшему в центре юрты, снаружи послышался стук копыт. В юрту вбежал слуга мурзы:
– Урус, пошли.
Пришлось взять сумку с инструментом и подчиниться. Рядом с юртой стояли три коня, мне указали на небольшую, неухоженную лошадку. Только я на нее взгромоздился, как один из татар подхватил ее под уздцы и рванул галопом. Ухватившись за луку седла, я еле усидел. Наездник я был никакой, а татары с седел всю жизнь не слазят, едят и пьют в седле, решают все вопросы в седле, даже малую нужду справляют в седле. Всю дорогу я мысленно заклинал Бога, чтобы он позволил удержаться в седле, упасть при такой скачке – верный способ сломать шею. Проскакав в таком темпе часа два, когда кони начали подхрапывать и покрываться пеной, мы прибыли к юрте, стоявшей недалеко от леса. Вокруг нее стояло десятка полтора коней в богатых сбруях и седлах. Я буквально свалился кулем с седла, с непривычки натерло внутренние поверхности бедер и деревянным седлом отбило мягкое место. Враскорячку я двинулся к юрте. С дневного света там оказалось темновато. Меня вытолкнули в центр юрты, где на попонах и подушках возлежал богато одетый татарин. Одежда на груди и правой ноге была разорвана и окровавлена. Рядом с ним на коленях стоял мой хозяин. Без слов он указал на раненого. Я осторожно стянул штаны и халат, один из слуг помогал. Так, нога в бедре сломана, причем перелом открытый, в кровоточащей ране виднелись обломки костей. Рана в грудной клетке была полегче – сломано несколько ребер да разорвана кожа. Я попросил несколько палок и длинные чистые тряпицы. По-русски, и то не очень хорошо, понимал только один татарин – богато одетый, за поясом кинжал в украшенных самоцветами ножнах. По его распоряжению слуги сорвались на лошадях в сторону леса.
– Что случилось?
– Родственник хана из Тюбек-Чекурги приехал поохотиться в здешних лесах на лося, но тот прямо шайтаном оказался – изувечил бея.
Пока я обрабатывал рану, многие из присутствующих вышли из юрты. Я попросил хлебного вина. Татарин, что был переводчиком-толмачом, неодобрительно покачал головой. Мое пояснение – что покалеченному это надо для лечения – оказало эффект, через несколько минут мне принесли кувшин. Я омыл руки, плеснул на рану, больной застонал. Ну что же, надо репозировать обломки. Объяснив толмачу, что мне требовалось, я встал у раны. Татарин стал по моему знаку тянуть сломанную ногу, слуги прижали тело. Кости удалось сопоставить, и я тут же примотал тряпицами палки к сломанной ноге. Еще раз сполоснув рану и руки хлебным вином, наложил несколько швов и туго забинтовал:
– Ему необходим покой, к дому надо перевезти на арбе. Мне надо наблюдать, лечить его.
Я намеренно говорил только по-русски, какой-то интуицией поняв, что свое, пусть и неважное знание татарского надо скрыть. Стоявший почти все время за моей спиной и внимательно наблюдавший старик с седой бородой и в зеленой чалме о чем-то стал переговариваться с толмачом. Я понимал только отдельные слова.
– Якши, – толмач поклонился.
Видно, старик был уважаем.
Через какое-то время послышался скрип колес, к юрте подогнали повозку, запряженную парой лошадей. В повозке на толстом слое сена лежал пуховый матрас, на который бережно переложили раненого. Мне снова подвели лошадку, и я со вздохом взгромоздился на нее. Татары, глядя на меня, показывали пальцами и громко смеялись. Мы тронулись, я за повозкой, остальные, чтобы не поднимать пыль, чуть приотстали. Ехали долго, почти до вечера. Вот и селение – Тюбек-Чекурги. Недалеко от селения протекала неширокая река. Меня вместе с раненым поместили в юрте. Вокруг забегали женщины. Как всегда, создалась суета, крики. На меня никто не обращал внимания. Осмелев, я знаками попросил покушать, все-таки я не ел весь день и провел его в седле. Я рассудил, что если им нужен был лекарь, то почему это должен быть голодный лекарь. Мне принесли вареной баранины и плошку риса, поставили небольшой кувшин с кумысом.