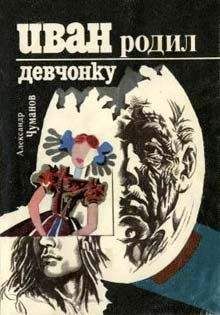Когда новый Анатолий Петрович глянул в баночку с водой — интересно же, — то увидел там черную любопытную мордочку и два уха, одно стоячее, а другое висячее. А глаз, зеркала души, он не увидел, потому что глаза были скрыты среди густой кудрявой шерсти.
Матери где-то не было. Она вообще, едва щенки подросли, предоставила им полную самостоятельность и свободу. Ну и себе, естественно. Она целыми слонялась по двору, выпрашивая подачки, кого-то провожала до работы, кого-то до магазина, кого-то встречала. Двор был большой, и забот хватало. Если ей перепадало что-нибудь вкусное, Умка не делилась с детьми, а, наоборот, злобно ворчала на каждого, кто осмеливался приблизиться к лакомому куску. И даже била лапой наиболее настырных. Она, видимо, не беспокоилась, что ее детей засосет улица, она стала тяготиться своими подросшими отпрысками и только кормить их до сих пор соглашалась, отчего ее отвисшие соски волочились чуть не по земле.
Матери где-то не было, хотелось кушать, и Анатолий Петрович пошел ее искать. Родной запах довел его до одного из подъездов и там, затоптанный людьми и машинами, потерялся. Щенок нерешительно постоял возле открытой настежь двери, откуда доносилось множество аппетитных запахов, потом неуклюже вскарабкался на одну ступеньку, другую.
Все перемешалось в его маленьком мозгу. С одной стороны, он чувствовал родство со своими такими же черными и лохматыми братьями и сестрами, оставшимися в спичечном ящике, с другой стороны, его манило что-то иное, призрачное, малопонятное для щенячьего ума. Какие-то совсем не собачьи образы плутали в курчавой голове.
Перед одной, обшитой дерматином дверью песик остановился. Он тихонько заскулил и поцарапал лапой дерматин. За дверью что-то стукнуло, но никто не открыл. Анатолий Петрович хотел уж было уйти обратно, но решил на всякий случай полаять. Он тявкнул разок для пробы и сам испугался так громко прозвучавшего в пустом подъезде своего голоса. И дверь незамедлительно открылась.
— Ты кто такой? — спросила болезненным голосом пожилая женщина, укутанная в шаль.
— «Да это же я, разве не узнаешь?» — хотел ответить Анатолий Петрович, но у него ничего не вышло, он только привстал на задние лапки и преданно заглянул женщине в глаза. И ему показалось, что женщина его почти узнала. Во всяком-случае, что-то неуловимо изменилось в ее взгляде, ~ потеплело будто.
— Ну, заходи, — сказала женщина подобревшим голосом. — Я буду звать тебя Джимом, не возражаешь?
— «А лучше бы Толиком», — подумалось Анатолию Петровичу, и он лизнул женщине руку. «А я буду звать тебя Тасей», — еще подумалось ему.
На свете к тому времени уже не осталось никого, кто бы мог называть ее этим старомодным именем. Для людей она была мамой, бабушкой, тетей, Анастасией Ивановной или совсем никем не была.
Она налила щенку вчерашнего супу в пустую консервную банку. Это был еще в предыдущей жизни любимый суп Анатолия Петровича, он и сейчас поел с аппетитом и даже вылизал баночку дочиста. Тася постелила ему под кроватью старый половичок и сказала, стараясь придать голосу строгость:
— Место, Джим, место!
И Анатолий Петрович привычно послушался Он лег, куда велели, и нашел свою новую постель вполне подходящей и удобной. И от волнения и усталости сразу заснул.
Вечером забежала проведать мать дочь Лидия.
— Как, ты уже на ногах?! — с деланным беспокойством спросила дочь и прошла в комнату не раздеваясь, шурша яркими одеждами. По голосу было ясно, что она очень рада досрочному материному выздоровлению после едва не подкосивших похорон, рада тому, что теперь не придется каждый день после работы тащиться к больной старухе через весь город, забегая по пути в магазины и на рынки в поисках всего того дефицитного и дорогого, с чем принято навещать больных.
— Ну, что же ты, мама, никого не слушаешь, ни врачей, ни меня, надо было еще с недельку полежать, — наставляла Лидия, — ну да ладно, может, действительно на ногах-то лучше, ведь папу все равно не вернуть, а у меня своя жизнь…
«Ну почему она такая получилась», — с досадой подумал Анатолий Петрович, завозился и нечаянно тявкнул.
— А это еще что за квартирант? — удивилась дочь и присела на корточки. Однако ничего плохого в ее голосе как будто не слышалось.
— Да вот, пришел, пусть, думаю, поживет, все не так одиноко, — как-то робко и виновато ответила мать.
— Ну и ладно, дело твое, — неожиданно сразу согласилась Лидия, — с ним гулять надо, вот и будете вместе дышать воздухом.
«Да не такая уж она и плохая, просто не повезло бабе в жизни», — решил Анатолий Петрович и покрутил хвостиком.
— А как ты его назовешь, мама?
— Да вот хочу Джимом, дак не знаю…
— Ну, что ж, нормально, значит, Джимчик, или проще Жимчик, ну вот и славненько, и живите, а мне пора…
И потянулись хорошие дни. Тася подолгу утром и вечером гуляла с Жимчиком, она стала лучше себя чувствовать, и участковая врачиха перестала заходить.
По вечерам они смотрели телевизор и разговаривали. Тася показывала псу альбом с фотографиями и рассказывала про покойного мужа. Если она что-нибудь путала, пес отрывисто лаял. Женщина умолкала и смотрела на своего любимца удивленным и даже испуганным взглядом. Но быстро успокаивалась.
«Как хорошо, — думал Анатолий Петрович, лежа посреди пола, — жаль, чтобы понять это, пришлось умереть и снова родиться собакой. А ведь у Таси нет в этой жизни никого и ничего, кроме меня. Как-то все недосуг было об этом задуматься».
Конечно, далеко не все умещалось в собачьей голове. Воспоминания путались, что-то исчезало бесследно, что-то причудливо переплеталось и становилось со временем несравнимым с действительностью.
«Видимо, — понимал Анатолий Петрович, — человеческая личность для собаки слишком велика, зато душу она, надо полагать, вмещает полностью, разве есть в мире что-то более надежное, чем собачья душа?»
А потом брали верх другие силы. Он смотрел на свою фотографию на стене, и ему уже казалось, что этот человек был когда-то его хозяином, иначе почему он ему так дорог, он пытался вспомнить себя вместе с ним, но вспоминался только человек, а черного спаниеля рядом с ним не было.
В моменты, когда человечья память пересиливала, Анатолий Петрович философствовал: «Вот еще говорят: жизнь собачья. Господи, хорошо-то как! Ни начальства, ни плана и вообще никаких обязанностей, накормят, погладят, погуляют с тобой, причешут и вымоют…»
И все чаще он был просто собакой, Жимчиком, и никем больше. Он делал все, что требовала него природа, и не страдал потом никакими комплексами и прочими чисто человеческими недугами. Прошлое он воспринимал как-то отстранено и без сожалений, и настоящее, таким образом, выглядело, по крайней мере, не хуже.