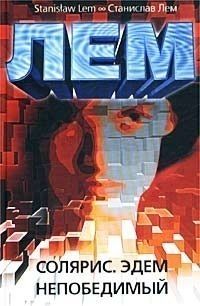— Дело нелёгкое, но осуществимое, поскольку туча является лишь псевдомозгом, а значит, лишена способности рассуждать…
— Надёжней всё-таки планетный вариант, со снижением среднегодового уровня инсоляции, — сказал Сарнер. — Четыре водородных заряда по пятьдесят — сто мегатонн на каждое полушарие — в общем, от силы восемьсот мегатонн. Этого хватит. Воды океана, испарившись, увеличат облачный покров, возрастёт альбедо, и оседлые симбиоты не смогут доставлять «мушкам» того минимума энергии, который необходим для размножения…
— Этот расчёт основан на непроверенных данных, — запротестовал Язон.
Видя, что начинается диспут специалистов, Роган отступил от двери и пошёл восвояси.
Возвращался к себе он не на лифте, а по металлической винтовой лесенке, которой обычно никто не пользовался. Перед ним возникали пролёты всё более высоких ярусов. Он видел, как в ремонтном отделении поблёскивали сварочные аппараты — люди из группы Деврие хлопотали вокруг чёрных, величественно неподвижных арктанов. Вдалеке показались круглые иллюминаторы госпиталя с их тусклым фиолетовым свечением. Какой-то врач в белом халате бесшумно прошёл по коридору автомат-санитар нёс за ним набор сверкающих инструментов. Роган проходил мимо пустых и тёмных помещений клуба, библиотеки, кают-компании; наконец добрался до своего яруса, прошёл мимо кабины астрогатора, внезапно приостановился, словно и тут хотел что-то подслушать, но сквозь гладкую пластину двери не проникал ни малейший звук, ни лучик света, а иллюминаторы вверху были плотно задраены, болты с медными головками довёрнуты до предела. Только в своей кабине Роган снова почувствовал усталость. Он ссутулился, тяжело осел на койку, сбросил ботинки и откинулся к переборке, заложив руки за голову. Так и сидел, глядя на слабое свечение ночной лампы, на низкий потолок, пополам разделённый тонкой трещиной на голубом лаковом покрытии.
Роган не из чувства долга бродил по кораблю и не потому, что его интересовали чужие разговоры. Он попросту боялся таких вот ночных часов, потому что тогда неотступно маячили перед ним картины, которые ему хотелось забыть. Изо всех воспоминаний самым страшным было одно — о человеке, которого он убил, выстрелив чуть ли не в упор, чтобы тот не убивал других. Он должен был так поступить, но легче от этого не делалось. Роган знал — стоит погасить свет, и он снова увидит эту сцену; увидит, как человек с болезненной, бессмысленной улыбкой ступает по камням, будто ведомый дёргающимся у него в руках стволом вейра, как перешагивает через безрукий труп… через Ярга, который вернулся, чтобы так нелепо погибнуть после чудесного спасения… а секунду спустя его убийце суждено было рухнуть на камни с разорванным, дымящимся на груди комбинезоном… И никакими силами нельзя было отогнать видение, вся сцена упорно заново развёртывалась перед глазами, и Роган ощущал резкий запах озона, горячую отдачу приклада, зажатого в потных ладонях, слышал скулящие завывания людей, которых он потом таскал, задыхаясь, еле дыша от изнеможения, чтобы связать их, как снопы, и снова эти близкие, знакомые, словно вдруг ослепшие лица потрясали его своей безысходной беспомощностью.
Что-то стукнуло; упала книжка, которую он начал читать ещё на Базе. Перед рейсом заложил страницу белым листком, но с тех пор не прочёл ни строчки, да и когда было читать… Роган поудобней устроился на койке. Подумал о стратегах, которые сейчас обсуждают планы уничтожения тучи, и пренебрежительно усмехнулся. «Бессмысленно это, всё бессмысленно… — думал он. — Они хотят уничтожить… да, собственно, мы тоже, все мы хотим уничтожить тучу, но этим никого не спасёшь. Регис безлюдна, и людям здесь нечего делать. Так к чему же это упорство? Ведь этих людей всё равно что ураган убил или землетрясение. Никакое сознательное намерение, никакая враждебная мысль не выступала против нас. Только неживой процесс самоорганизации. Стоит ли растрачивать силы, расходовать энергетические запасы, чтобы уничтожить этот процесс, только потому, что мы видели в нём коварного врага, который исподтишка напал сначала на „Кондора“, а потом на нас? Сколько таких жутких загадок, чуждых человеческому пониманию, таит ещё космос? Неужели мы всюду должны являться, неся всеуничтожающую силу на своих кораблях, чтобы вдребезги расколотить всё, что противоречит нашим понятиям? Как они это назвали — некросфера, а значит, и некроэволюция, эволюция мёртвой материи… Может, лирянам было бы дело до этого, Регис III находилась для них в пределах досягаемости, может, они собирались её колонизовать, когда астрофизики предсказали, что их Солнце превратится в Новую… Может, это была для них последняя надежда. Если б мы оказались в такой ситуации, то, конечно, боролись бы, уничтожали бы этот чёрный кристаллический помёт. Но вот так?.. На расстоянии парсека от Базы, которая в свою очередь находится за столько световых лет от Земли, — во имя чего мы остаёмся здесь, теряя людей, зачем учёные по ночам обдумывают методы уничтожения, ведь о мести не может быть и речи…»
Если б Горпах оказался здесь, Роган сейчас выложил бы ему всё это.
«Как смешно и сумасбродно это „покорение любой ценой“, эта „героическая стойкость человека“, эта жажда мести за гибель товарищей, которые погибли потому, что их послали на верную смерть… Мы были попросту неосторожны, мы слишком полагались на свои излучатели и индикаторы, мы совершили ошибки и расплачиваемся за это. Мы сами, только мы виноваты».
Так он размышлял, закрыв глаза, которые даже от слабого ночного света жгло, будто под веки песку насыпали. Человек — это он сейчас понимал — ещё не поднялся на должную высоту, ещё не заслужил права быть, а не только числиться личностью, красиво именуемой «галактоцентрической», издавна им самим прославляемой. Галактоцентризм ведь не в том состоит, чтобы искать только себе подобных и только их понимать, а в том, чтобы не вмешиваться в не свои, нелюдские дела. Захватить, освоить пустоту — ну конечно же, пожалуйста, почему бы нет; но нельзя набрасываться на то, что за миллионы лет создало своё собственное, ни от кого и ни от чего, кроме законов природы, не зависящее устойчивое равновесие существования, деятельного, активного существования, которое не хуже и не лучше существования белковых тел, именуемых животными или людьми.
Именно такого Рогана — преисполненного возвышенным галактоцентрическим всепониманием любой существующей формы жизни — и настиг, словно вонзаемая в мозг игла, пронзительный вопль сирен. Все его размышления мгновенно исчезли, сметённые назойливым звуком, заполнившим корабль сверху донизу. Роган выскочил в коридор и бежал вместе с другими, вторя тяжкому ритму усталых шагов, вторя горячему дыханию товарищей, и, прежде чем добрался до лифта, ощутил — не слухом, не осязанием, даже не всем своим существом, а словно бы корпусом корабля, частицей которого он стал, — удар, хотя по видимости крайне отдалённый и слабый, но пронизавший крейсер от кормовых опор до носа, удар ни с чем не сравнимой силы, который — он и это ощутил — приняло и упруго отразило нечто ещё более сильное.