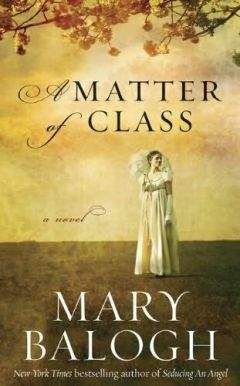Джина сказала:
– Даже если брат действительно виновен, ни один суд не признает уликой два слова, которые потерпевший тут же взял обратно. Если кого-то осуждают, то не вследствие оживления.
Мне трудно было спорить и пришлось напрячься, чтобы взглянуть шире.
– В данном случае да. Однако бывало, что оживление решало все. Слова жертвы не имели бы веса в суде, однако они указывали на человека, которого иначе бы не заподозрили. Следователям удавалось собрать улики лишь потому, что убитый направил их по верному пути.
Джина упорствовала.
– Может, так и было раз или два, но все равно, цель не оправдывает средства. Надо запретить всю процедуру, – Она помолчала, – Но ведь ты, конечно, не включишь эту пленку в фильм?
– Конечно, включу.
– Ты покажешь человека, умирающего на операционном столе, в ту минуту, когда он осознает, что вернувшее его к жизни его же и добьет?
Джина говорила спокойно; она скорее не верила, чем возмущалась.
Я спросил:
– А что мне показать? Пусть актер разыграет сцену, где все пройдет гладко?
– Конечно, нет. Но почему бы актеру не разыграть то, что случилось сегодня ночью?
– Зачем? Это уже случилось, я уже это снял. Чего ради реконструировать?
– Хотя бы ради его семьи.
Я подумал: «Возможно. Но легче ли будет им смотреть реконструкцию? В любом случае, никто не заставит их смотреть фильм».
Вслух я произнес:
– Рассуди здраво. Материал сильнейший, я не могу его выкинуть. И я вправе его использовать. И полиция, и врачи разрешили съемку. Когда родные подпишут бумагу…
– Ты хочешь сказать, когда адвокаты твоей сети дожмут их, заставят подписать отречение «в интересах общества».
Возразить было нечего: именно так оно и произойдет. Я ответил:
– Ты сама говоришь, что оживление надо запретить. Пленка этому и послужит. Такая доза франкенштухи удовлетворила бы самого оголтелого луддита…
Джина обиделась – непонятно, искренне или притворно.
– Я доктор технических наук, и если всякая темнота будет обзывать меня…
– Никто тебя не обзывал. Ты прекрасно понимаешь, о чем я.
– Если кто и луддит, так это ты. Весь твой проект отдает эдемистской пропагандой. «Мусорная ДНК»! А какой будет подзаголовок? «Биотехнологический кошмар»?
– Вроде того.
– Я не понимаю, почему бы тебе не включить хоть один положительный пример?
Я отвечал устало:
– Мы сто раз это обсуждали. Решаю не я. Сеть не купит материал, в котором отсутствует точка зрения. В данном случае оборотные стороны биотехнологии. Речь идет о выборе темы. Никому не нужна взвешенность. Она только смущает отдел маркетинга: поди разрекламируй фильм, который несет две взаимоисключающих мысли. По крайней мере он уравновесит идиотские восторги по поводу генной инженерии, а в конечном итоге как раз и покажет полную картину. Добавив то, что скрывают другие.
Джина стояла на своем.
– Старая песня. «Наши сенсации уравновесят их сенсации». Ничего они не уравновесят, только поляризуют мнения. Чем вас не устраивает спокойная, вдумчивая подача фактов, которая помогла бы запретить оживление и другие дикие зверства, но без всей этой навязшей в зубах нудятины насчет «вмешательства в природу»? Можно показать крайности, но в контексте. Ты помог бы людям разобраться в том, чего им требовать от правительства. А так они насмотрятся «Мусорной ДНК» и пойдут взрывать ближайшую биотехнологическую лабораторию.
Я свернулся в кресле и примостил голову на колени.
– Все, сдаюсь. Твоя правда. Я – дикий необразованный мракобес.
Она нахмурилась.
– Мракобес? Я этого не говорила. Ты порочный, ленивый и безответственный, но в неведение поклонники тебя еще записывать рано.
– Тронут твоей верой.
Она кинула в меня подушкой, думаю, нежно и ушла на кухню. Я закрыл лицо ладонями, и комната заходила ходуном.
Мне бы радоваться. Все позади. Оживление – последнее, чего недоставало «Мусорной ДНК». Не будет больше безумных миллиардеров, превращающих себя в самодостаточную ходячую экосистему. Не будет страховых фирм, изобретающих вживляемые датчики, которые следили бы за питанием, образом жизни, уровнем загрязнения среды, в которой живет клиент, – чтобы путем бесконечных вычислений установить вероятную причину и дату его смерти. Не будет «Добровольных аутистов», добивающихся права хирургически калечить себе мозги, чтобы достичь полноты состояния, не данного им природой…
Я прошел в кабинет и вытянул из компьютера кишку – световод. Задрал рубашку, выковырял из пупка грязь и ногтями вытащил телесного цвета затычку, обнажив короткую трубочку нержавеющей стали и полупрозрачный лазерный порт.
Джина крикнула из куши:
– Опять занимаешься противоестественной любовью с компьютером?
У меня не хватило сил ответить остроумно. Я соединил разъем, и монитор зажегся.
На экране появлялась вся перекачиваемая информация. Восемь часов съемки в минуту – сплошное мелькание, и все равно я отвел взгляд. Не хотелось видеть события сегодняшней ночи, даже в ускоренной перемотке.
Вошла Джина с тарелкой горячих тостов; я нажал кнопку, чтобы изображение исчезло. Она сказала:
– Все-таки не понимаю, как это: четыре тысячи терабайт оперативной памяти в животе – и ни одного видимого шрама.
Я взглянул на гнездо.
– А это что, по-твоему? Невидимое?
– Слишком маленькое. Схема на четыре тысячи терабайт имеет длину тридцать миллиметров. Я смотрела в каталоге изготовителя.
– Шерлок снова прав. Или я должен был сказать – Шейлок? Шрамы можно свести, ведь так?
– Да, но зачем уничтожать следы важнейшего обряда инициации?
– Только не надо антропологии.
– У меня есть альтернативная теория.
– Я ничего не подтверждаю и не опровергаю.
Джина скользнула глазами по черному экрану и остановилась на афише «Конфискатора»[2]: полицейский на мотоцикле возле помятого автомобиля. Она увидела, что я слежу за ее взглядом, и указала на подпись: «НЕ ГЛЯДИ В БАГАЖНИК!»
– В чем дело? Что в багажнике?
Я рассмеялся.
– Проняло-таки? Придется смотреть фильм?
– Ага.
Компьютер пискнул. Я отсоединился. Джина глядела на меня с любопытством, видимо, что-то такое было написано на моей физиономии.
– Это как в постели? Или как в сортире?
– Как на исповеди.
– В жизни не была на исповеди.
– Я тоже. Но в кино видел. Впрочем, шучу. Ни на что это не похоже.
Она взглянула на часы, поцеловала меня в щеку, запачкав хлебными крошками.
– Пора бежать. А ты поспи, дурачок. На тебя смотреть страшно.
Я сел и стал слушать, как Джина собирается. Каждое утро она полтора часа едет поездом до Центрального научно-исследовательского института воздушных турбин к западу от Блу-Маунтинс. Я обычно встаю вместе с ней, очень уж грустно просыпаться одному.