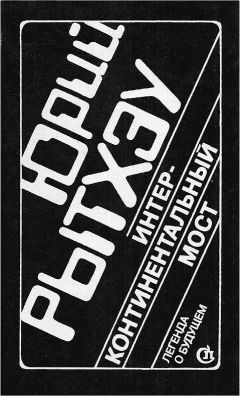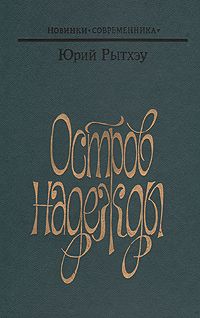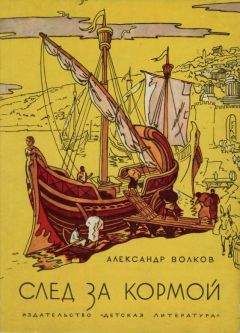Анканау прыгнула на него и села лицом к морю, к солнцу, медленно тонущему в воде. Светлая дорожка лежала на волнах, разбивалась на тысячи мелких осколков в шипящих бурунах. Ощущение огромного простора, беспредельности охватило девушку. Она как бы растворилась в этом великолепии, в зелёных волнах, пронизанных солнечным лучом, в прозрачном воздухе, напоенном морским запахом. Она стала как бы частью огромных чёрных скал, нависших над морем. Порой ей казалось, что она вместе с ветром бежит в тундру, неся с собой крик морских птиц, тяжёлое дыхание моржей, свист китовых фонтанов… Из груди рвался возглас восторга, и вместе с тем не хотелось нарушать своим голосом разговор природы, вплетать в его многозначительный шепот маловыразительные слова. Каждый раз именно здесь Анканау хотелось читать стихи… Она их знала множество, но ведь они были написаны другими и совсем про другое…
Солнце ещё не вынырнуло из моря, а Чейвын уже спускался к берегу, к белым вельботам, подпёртым толстыми кольями, чтобы не заваливались на гальку.
Перед уходом он разбудил жену и дочь.
Анканау вскочила с кровати и принялась делать утреннюю гимнастику. Она прыгала на прохладном деревянном полу, когда из кухни в комнату заглянула встревоженная мать:
— Что-то тут трясётся? Чайные чашки звякают…
Она удивлённо уставилась на дочь.
— Физкультуру делаешь?
Анканау молча кивнула, продолжая подпрыгивать.
— Она тебе не надоела в интернате?
— Что ты, мама, говоришь? Гимнастику надо делать каждый день. Я тебя ещё, как председателя Совета, заставлю помочь оборудовать у нас в селении спортплощадку.
— Ладно, умывайся, иди чай пить.
Из дому вышли вместе. Шагали рядом — мать и дочь, и каждый встречный почтительно здоровался с ними. По всему селению уже разнеслась новость, что дочка охотника Чейвына не пожелала учиться дальше и вернулась в родительский дом. Одни при этом осуждающе качали головой, другие завистливо отмечали, что велика радость, когда родное дитя дома. Ведь они и так мало бывают с родителями. Чуть только появились на свет — в детские ясли, потом в садик, в интернат… А если в селе начальная школа, то старших видишь только в зимние каникулы — летом они едут в пионерский лагерь… Всё же лучше, когда в доме звучит молодой голос.
Сельский Совет и правление колхоза «Охотник» находились напротив. Рультына остановилась и вопросительно посмотрела на дочь.
— Может быть, мне пойти с тобой?
— Не надо, ымэм, — ответила Анканау. — Я пойду одна.
— Ладно, иди, — вздохнула Рультына.
Она стояла на улице до тех пор, пока дочь не скрылась за дверьми правления.
В комнате, примыкавшей к председательскому кабинету, толпились женщины и строители. Бригадиры громко разговаривали, назначая людей на рабочие места.
Когда Анканау вошла, многие женщины притихли и уставились на неё. Сдержанный шёпот пронёсся по комнате.
— Какая красавица! — тихо произнёс кто-то из плотников.
— Чейвына дочка, — шепнула женщина с большим, остро отточенным пекулем в руках.
— Должно быть, в правлении будет сидеть, — предположила полная женщина с татуировкой на носу.
Анканау молча прошла сквозь толпу в кабинет.
За столом в непромокаемой куртке с жирными пятнами сидел Василий Иванович Каанто, председатель колхоза. Он разглядывал большой лист бумаги, испещрённый синими линиями. Напротив него, перегнувшись через стол, стоял бригадир строителей Миша Ачивантин в ватнике, заляпанном масляной краской.
— Я занят! — крикнул Василий Иванович, не поднимая головы.
— Ничего, я подожду, — скромно сказала Анканау.
— Выйдите, выйдите, — скороговоркой, не отрываясь от бумаги, произнёс председатель.
— Я здесь подожду…
Председатель поднял голову. Он долго всматривался в лицо девушки, как бы стараясь припомнить, кто она такая.
— Вы из района! — догадался он, наконец, и гостеприимно заулыбался.
— Да… То есть теперь я здесь, — запинаясь, ответила Анканау. — Вчера приехала.
— Ачивантин, ты выйди, — строгим голосом приказал Василий Иванович. — Займусь товарищем из района.
Ачивантин не тронулся с места. Он усмехнулся.
— Какой это товарищ? Это же Анка! Дочка бригадира шестого вельбота Чейвына.
Глаза председателя округлились, сквозь смуглую кожу проступила краснота.
— Ты же была совсем маленькая девочка… Пионерка… — растерянно произнёс он. — Вот как дети быстро растут.
Анканау стояла перед председателем и смотрела ему в глаза.
— По какому вопросу? Отец послал? Или мать — Рультына? — забросал он её вопросами, суетливо поправляя на столе чернильный прибор из моржового бивня.
— Я сама пришла, — ответила Анканау, — насчёт работы.
— Похвально! Похвально! — глядя на Ачивантина, чтобы спастись от глаз девушки, сказал Василий Иванович. — Сейчас такое движение идёт, чтобы молодёжь после школы шла на производство. Образованные кадры во как нам нужны! — Каанто провёл ребром ладони по горлу, показывая великую нужду в образованных кадрах.
— Можем взять пока учётчиком, — продолжал он деловитым тоном, — либо кассиром… Есть должность воспитателя в детском саду…
— Я хочу пойти на разделку, — сказала Анканау, дождавшись паузы. — На берег.
— Вот ещё придумала! — отмахнулся Каанто. — Каждый дурак может пекулем резать. А мы тебе найдём работу по твоим знаниям. Торопиться некуда. Иди отдыхай. Вернётся твой отец с промысла, вместе с ним и подумаем.
Каанто поглядел на Ачивантина и веско добавил:
— Выбор профессии — важное дело.
— Я сегодня же хочу на работу, — твёрдо повторила Анканау. — На берег. Скажите, в чью бригаду мне идти?
— Мы предлагаем тебе как лучше, — сказал Каанто.
— Мне не надо как лучше. Пошлите туда, где все работают.
— Как хотите, — сердито пожал плечами Каанто. — Рядом в комнате бригада Йиленэу. Идите к ней. Скажите, что я послал.
Анканау встала и, не оглядываясь, вышла из комнаты.
Йиленэу оказалась полной женщиной с татуировкой на носу. Она критически оглядела одеяние Анканау и процедила сквозь зубы:
— Не боишься испачкаться?
Действительно, Анканау и не подумала о своей одежде. На ней был толстый шерстяной свитер, жакет и чёрная юбка. На ногах капроновые чулки и туфли на каблучках.
— Я пойду переоденусь, — стараясь казаться спокойной, сказала Анканау.
— Беги быстрее, если не хочешь опоздать.
На берег Анканау спустилась в старой застиранной камлейке, в лыжных брюках, заправленных в высокие резиновые сапоги. В руках она держала давно не бывший в употреблении, заржавленный пекуль.