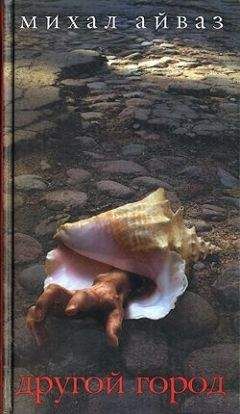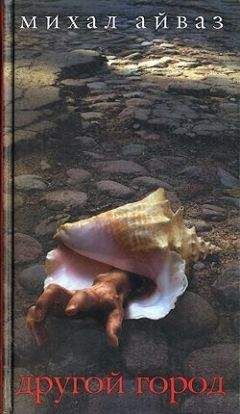Археолог задумался и начертил рукой на скатерти, по которой разливался зеленоватый свет, три концентрических круга.
– …Как перевернутая форма для трехэтажного торта, – подсказал я.
– Да. Дальние комнаты построек на самой высокой террасе, судя по всему, были высечены прямо в скале; ступеньки, которые спускались от их входов в строения низшего круга, уходили в прозрачные воды озера. Все стены были украшены кручеными линейными орнаментами из ракушек и улиток, даже вокруг столбов вились ракушечные спирали. В колоннадах росли деревья и кусты, между густыми темно-зелеными листьями просвечивали разноцветные плоды. Быть может, семена деревьев занес сюда ветер джунглей, а может быть, растительность на дне кратера была остатком древних садов.
В местах, куда вел канал, соединяющий озеро с морем, круг строений был нарушен, так что сначала мы плыли между двумя стенами, которые соединялись между собой над нашими головами тремя сводчатыми мостиками – по одному на каждый уровень террас. С мостиков, касаясь глади воды, свисали тонкие побеги; их было так много, что они образовывали нечто вроде нежной вуали, сквозь которую мы скользили. Когда лодка вплыла в озеро, мы отложили весла и долго смотрели на белые стены и колонны в зелени кустарника. Мы пристали к лестнице, ступеньки которой были видны глубоко под спокойной прозрачной гладью, и поднялись по ней на первую террасу. Мы бродили по пустым залам дворцов, где в косых солнечных лучах плясали пылинки, и по внутренним дворикам с высохшими фонтанами, пробирались среди крупных листьев кустов, темнота которых скрывала белые статуи людей и животных; мы поднимались и снова спускались по широким лестницам и наслаждались прохладой помещений, вытесанных в скале. И всюду, словно длинные разноцветные змеи, нас сопровождали ракушечные орнаменты, вьющиеся по стекам, фантастически переплетающиеся и снова расплетающиеся, бегущие монотонными волнами. Вечером, когда солнце скрылось за краем кратера и белые здания погрузились в сумрак, мы лежали возле озера на все еще теплом песке. Я смотрел на ракушечных змей, которые настойчиво пытались заползти в каждый уголок стены, и не мог избавиться от ощущения, что это недвижное копошение скрывает в себе некую упорядоченность, ускользающую от меня. Потом мне пришло в голову, что смысл не обязательно должен содержаться в самих узорах, которые составляли раковины, – его может нести очередность расположения в цепочках раковин и улиток. И внезапно мне вспомнилась старинная история, записанная путешественником, который бывал в этих краях в эпоху их расцвета, и я понял: витые ряды моллюсков – это письмо. И я взглянул на них по-другому – раковины на стенах перестали быть пестрым узором, по волнам которого можно беззаботно скользить глазами, и превратились в текст, поблекший от источаемой им тайны, но в то же время сберегший ее.
У нашего стола снова появился официант и поставил на скатерть тарелку с сыром и картошкой. Я отделил ножом кусок мягкой массы и попытался поднести его на вилке ко рту. Отрезанная часть поспешила начать срастаться с тем, что осталось на тарелке, и, пока я поднимал ее вверх, между обоими кусками в зеленоватом сиянии протянулись длинные бледные нити, они постепенно истончались, рвались и завивались спиралью. На смиховском берегу зажглись уличные фонари, их свет отражался на темной речной глади в виде колеблющихся столбиков.
– В тот же вечер нам удалось расшифровать некоторые знаки. Это было не слишком сложно, потому что мы уже знали язык надписей – наречие, которым нынче пользуются в тех краях, близко к нему, – а кроме того, нам помогла любовь тех, кто некогда вставлял раковины в стены, к шуточным каллиграммам: частенько линия, которую создавали ряды букв данного слова, изгибалась в очертания вещи, этим словом обозначаемой. Находка ракушечных записей была тем более замечательна, что цивилизация, следы которой мы изучали в Индии, не оставила после себя никаких текстов: все время своего существования она отличалась ненавистью к письму – точнее, ко всем его видам, какие только встречаются в других культурах. Это не значит, что у нее вовсе не было письменности. Наоборот, там развилось звуковое письмо, способное выразить абсолютно все и в совершенстве отвечавшее требованиям, которые предъявляла к письму эта культура. Но народ не признавал письма, которое длилось во времени, и правители империи жестоко подавляли все попытки его введения.
– Однако длительность письма – это нечто, под чем каждый может представлять себе разное, – возразил я. – Ведь на самом-то деле ни одно письмо не является нетленным. Конечно, есть разница между надписью на песке на морском берегу и иероглифами, вытесанными на каменной стене храма, но ни один из этих текстов не вечен, в конце концов время сотрет и буквы на песке, и черточки на камне.
– Да, но временность письма, которое единственно разрешалось и развивалось в этой империи, была иного рода. Это письмо, в отличие от иероглифов и надписей на песке, исчезало прямо во время прочтения, его уничтожал без следа сам процесс чтения. Носителем значения были не формы, а вкус; читали не глазами, а ртом. Отдельные звуки обозначались вкусом мяса разных морских животных: рыб, ракообразных и мягкотелых. Были еще вкусы, исполнявшие роль знаков препинания: например, вкус мяса каракатицы означал точку с запятой. Искусство писаря было доступно лишь касте жрецов. Судя по сведениям, оставленным гостями империи, жрецы создавали тексты – неважно, письма ли, стихи или теологические трактаты – следующим образом: сначала в храмовых кухнях варили морских животных, а потом на тарелке из полированного черного камня раскладывались по спирали мелкие кусочки их мяса, причем начинали всегда от центра и шли к краю тарелки, так что последний завиток спирали непременно следовал тарелочной каемочке. В империи профессии жреца, повара и писаря сводились к одной, читальные залы и рестораны были одним и тем же заведением. Время от времени в главном храме устраивались мероприятия, которые были чем-то средним между банкетом и теологической конференцией.
Такой способ письменного обозначения сам побуждал к тому, чтобы тексты распространялись сериями, – возможно, он даже был ближе к печати, нежели к письму. Усовершенствовавшись за века, приготовление текстов, так сказать, автоматизировалось. В центре храмовой кухни стоял длинный стол, на котором размещали ряд черных тарелок. На возвышении сидел жрец – некое подобие главного редактора – и выкрикивал отдельные буквы в том порядке, в каком они следовали друг за другом. У стен ждали жрецы-наборщики, каждый из них держал в руке поднос с нарезанными кусками мяса одного из морских животных. Когда наборщик слышал звук, который обозначал вкус его животного, он бегом устремлялся вдоль ряда тарелок и клал на каждую из них по одному кусочку. Главный редактор тут же выкрикивал новую букву, и к столу подбегал следующий жрец. В конце стола жрецы поворачивались и возвращались вдоль другой его стороны на свои места. И так вкусовые книги выходили большими тиражами – жители империи словно бы компенсировали короткую жизнь текстов тем, что они появлялись в таком количестве копий, какое позже было достигнуто только после изобретения книгопечатания. В столице выходило даже некое подобие вкусовой газеты – газетчики по утрам разносили по улицам города тарелки со свежими новостями, набранными ночью в кухне храма и рассказывающими о жизни королевского двора, недавних событиях в загробном мире и о последних самых интересных чудесах и пророчествах.