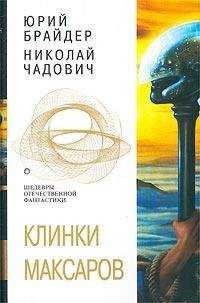Несмотря на то что ко сну ватага отходила не в самом мирном расположении духа, дрыхли все сейчас, что называется, без задних ног. Если мысль о том, что голод не тетка, верна, то уж усталость точно не кума, которую можно запросто игнорировать.
Заслышав издаваемые Левкой шорохи и судорожные покашливания, чуткий Зяблик приоткрыл один глаз.
Глаз этот светился наподобие лампочки и был страшен своим багровым волчьим отливом. Цыпф, и без того ощущавший в горле что-то вроде комка пакли, утратил голос окончательно.
Некоторое время они молча пялились друг на друга, а затем Зяблик мрачно поинтересовался:
— Что вылупился, как капрал на рекрута? Сон, что ли, плохой приснился? Дай полтинник, поправлю дело.
— Ты… Это самое… — Цыпф с трудом подбирал слова, — буркалы свои поправь. А не то люди, как проснутся, до полусмерти напугаются.
— На себя лучше глянь, — отрезал Зяблик, а потом с оттенком презрения почему-то добавил: — Чип-поллино!
Ошеломленный Цыпф сначала потянулся к носу, но, вспомнив, что Буратино и Чиполлино совсем разные персонажи, машинально подергал свои давно немытые лохмы, черные и жесткие, как у терьера.
Волосы покидали голову Левки так легко, будто никогда ему и не принадлежали. Впрочем, похоже, так оно и было — по крайней мере, сам Левка не мог признать в этих мягких, действительно желтых, как луковая шелуха, прядях остатки своей буйной африканской шевелюры.
Тут уж и впрямь стало не до сна. Рискуя нарваться на крупные неприятности, Цыпф принялся будить Верку, владевшую карманным зеркальцем — одним из трех, имевшихся в ватаге. (Тревожить Смыкова, а тем более Лилечку он не рискнул — одна мысль о том, что будет, когда девушка проснется, ввергала Левку в тихий ужас.) Верка долго брыкалась и отмахивалась, но потом все же открыла глаза — к счастью, по-прежнему голубые и ясные. Ахнула она не от страха, а скорее от жалости.
— Левушка, знаешь, на кого ты сейчас похож?
— Знаю, — вынужден был признаться тот. — На Чиполлино. Мне уже говорили.
— На какого еще Чиполлино! Ты на героя гражданской войны Котовского похож. Фильм про него был с Мордвиновым и Марецкой в главных ролях. Только зачем ты волосы покрасил?
— Если бы я сам… — вздохнул Левка. — Ты на Зяблика полюбуйся. Уж теперь-то его звериная натура стала ясна окончательно.
Зяблик, уже примерно догадавшийся, какая именно метаморфоза случилась с ним, выкатил на Верку свои жуткие очи да вдобавок еще и зубами щелкнул. Однако к Верке успело вернуться ее обычное хладнокровие.
— Замечательно, — сказала она. — На крупного хищника ты пока, конечно, не тянешь, но на мартовского кота очень похож… А как горят, как горят! — ухватив Зяблика за нос, она бесцеремонно покрутила его головой. — Теперь, если кому-нибудь в темное место по нужде понадобится, без свечки можно.
— Вера Ивановна, вы мне зеркальце на минутку не одолжите, — попросил Цыпф, снимая с черепа очередной клок волос.
— Сейчас, зайчик. — Она передернула плечами так, как будто какое-то неудобство за шиворотом испытывала. — Что-то у меня загривок свербит… Посмотрите, а?
— Что там у тебя может свербеть… — Зяблик был серьезен, как никогда. — Щетина, наверное, растет. А может, панцирь черепаший… Не нам же одним страдать…
Заранее готовясь к дурным новостям, Верка задрала свои многочисленные рубахи, которые носила по принципу «чем ближе к телу, тем выше качество» — начиная от линялого хэбэ и кончая тончайшим шелком. Взорам мужчин открылась ее хрупкая спина, в верхней части почти сплошь покрытая четким убористым текстом.
Цыпф осторожно потрогал буковки пальцем — это были не чернила и даже не типографская краска, а нечто основательное, типа родимых пятен — и принялся читать вслух:
— «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…
под гармошки желтую грусть».
Не знал. Вера Ивановна, что вы так Есениным увлекаетесь. Даже сквозь кожу стихи проступили… Только, правда, в зеркальном изображении… Справа налево.
Верка живо поправила свой наряд, а после этого вытряхнула на землю содержимое дорожного мешка. Сверху оказалась затрепанная книжка без обложки и титульного листа.
— Вот она, проклятая! — Верка схватила книжку так, словно это было какое-то зловредное существо. — Избранное! Том второй! От самой Отчины с собой таскаю! Почитать хотела на досуге! Вот и дочиталась! Господи, за что такое наказание!
— Не переживай, — стал успокаивать ее Зяблик. — Считай, что с Есениным тебе еще повезло. Поэт душевный. А то сунула бы в мешок справочник по гинекологии и имела бы сейчас на горбу схему женских внутренних и наружных половых органов.
— Прикуси язык, охломон! — прикрикнула на него Верка. — Если бы ты знал, как чешется! Будто бы крапивой меня отхлестали! Просто мочи нет!
— Давай тогда почешу, — милостиво согласился Зяблик. — Заголяйся.
Очень скоро выяснилось, что согласные буквы чешутся сильнее, чем гласные, а от знаков препинания вообще спасу нет — зудят, как укусы слепней.
Пока Зяблик и Верка были поглощены этим занятием, со стороны сильно смахивающим на какую-то редкую форму садомазохизма, Цыпф отыскал в куче барахла вожделенное зеркальце и принялся обирать с головы последние остатки волос, которые уже никак не могли украсить его. Вид при этом он имел, естественно, скорбный.
Всем троим, конечно, хватало собственного горя, но пробуждение остальных членов ватаги ожидалось с нетерпеливым любопытством. К Лилечке или к тому же Артему никто ревнивых чувств, в общем-то, не испытывал, но если бы неведомое бедствие обошло стороной Смыкова, это бы сильно задело и Зяблика, и Верку, да, пожалуй что, и Цыпфа. Как известно, разделенная беда очень сближает людей, а личные неприятности на фоне чужих удач весьма портят отношения.
Когда ждать стало невмоготу, Верка, стоявшая на коленках и руки имевшая свободными, сунула Смыкову в ноздрю былинку какого-то терпко пахнущего растения. Вырванный целой серией громогласных чиханий из объятий Морфея, Смыков сразу заприметил все: и волчий взгляд Зяблика, и голый череп Цыпфа, и спину Верки, не то татуированную, не то покрытую цианозной сыпью.
Удрученно покачав головой. Смыков заговорил. Речь его была благозвучна, цветаста, витиевата, богато сдобрена аллитерациями и парцелляциями (Аллитерация, парцелляция — ораторские приемы, с помощью которых речи придается особая звуковая и интонационная выразительность.), но абсолютно непонятна присутствующим. Как ни вслушивались обалдевшие члены ватаги в эти перлы риторического искусства, но так и не смогли уловить хотя бы одного знакомого слова. В тупике оказался даже Цыпф, умевший одинаково хорошо объясняться как с кастильцами, так и с арапами.