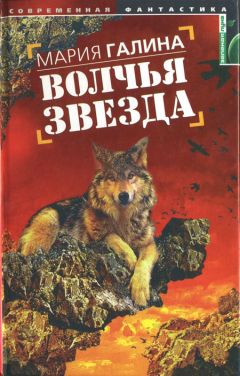— Никто не вмешался?
— Нет. Если пять лет назад, когда случилось это землетрясение в Китае, мы хотя бы послали горстку специалистов и технику, то теперь… трясемся, как скряги. Или распоследние трусы. Впрочем, может, они все же на что-то решились… Кто знает — Сеть теперь работает лишь два часа в сутки.
— Почему?
— Имморталии жрут очень много энергии.
— И никто не протестует?
— Нет. Большинство надеется оказаться там рано или поздно.
— А вы? — требовательно спросил Ковальчик.
— Нет, — сказал Рихман, — я все-таки врач.
— Психиатр!
— Сейчас, — горько заметил Рихман, — это становится самой актуальной профессией. Если бы они еще согласились признать, что стали жертвой массового психоза и им требуется помощь! Но они же полагают, что совершенно здоровы. Рвутся в эти имморталии, а ведь по большому счету никто не знает, что там происходит с людьми — прошедшие обработку свели свои контакты до минимума. И требуют, требуют… Энергии, ресурсов, пространства… всего.
— Требовать они могут сколько угодно. Но ведь на открытый конфликт они никогда не пойдут — побоятся за свои драгоценные бессмертные шкуры.
— Им этого и не нужно. У них в руках вся надежда человечества.
— Надежда человечества, — пробормотал Ковальчик. — Больше никто не отправляет кораблей. Даже атмосферные полеты сведены к минимуму. Надежда… Проект — вот она, последняя надежда человечества. Они там будут совсем другими… чистыми… Они и есть другие. Я рад, что решился тогда на это безумие.
Рихман осторожно пожал худую руку, лежащую поверх одеяла. От руки уходила вверх трубка, в которой пульсировала голубоватая жидкость.
— Я тоже рад, — сказал он. Ковальчик лежал, прикрыв глаза. Рихман взял трость и побрел по коридору.
«Я ему не сказал, — подумал он, — пусть умрет спокойным».
Весельчак Бенни был одним из первых подопытных Рихмана. Когда он прошел обработку, ему было всего семнадцать, но на его совести уже числилось несколько трупов… Рихман выбрал его для первой серии эксперимента и, после всестороннего тестирования, выпустил в большой мир под свою ответственность. Бенни держался пятьдесят лет. Три дня назад он встал со своего любимого кресла, взял молоток, которым до этого приколачивал семейные фотографии, и ударил по голове дочь, мывшую на кухне посуду. Он не смог никому объяснить, зачем он это сделал. Когда в комнату ворвались полицейские, он стоял на подоконнике, забрызганный кровью. Потом помахал им рукой, улыбнулся и спрыгнул вниз.
Мы еще остаемся в коконе света.
Когда он распадается (медленно или мгновенно),
успеем ли мы отрастить крылья,
как у павлина в ночи, покрытые глазами,
чтобы устремиться в этот холод и тьму?
Ф. Жакоте
Симон отложил книгу, которую он просматривал, одновременно обрабатывая фиксирующим раствором, и выглянул в окно. «Еще недавно, — подумал он, — тут все выглядело иначе». Центральная часть замка, где он, собственно, и находился, была уже восстановлена, боковые крылья расчищены от обломков, и воздух вдоль периметра слабо дрожал, указывая на присутствие защитного поля. В подвалах мягко урчали генераторы поля, заодно обеспечивающие экспедицию светом и теплом, а во дворе уже выросли подсобные помещения — в том числе и ангар для авиетки. Странное пристрастие Гидеона к подобным игрушкам до сих пор оставалось для него загадкой — тащить такую нефункциональную штуку через расстояние в несколько световых лет! «Впрочем, — подумал он, — она почти ничего и не весит».
Под сводами замка шаги отдавались эхом так гулко, что, казалось, идет великан — но это был всего лишь Гидеон. Он вошел, отряхивая капюшон, вид у него был удрученный.
— Дождь, — сказал он. Это прозвучало почти укоризненно.
Симон вновь выглянул в окно. Редкие искры на поверхности защитного купола, там, где капли испарялись, ударяясь о силовой щит, превратились в сплошное ровное тусклое сияние.
— Да, — сказал он, — тут это обычное дело.
— Я к такому не привык, — Гидеон вновь отряхнулся, точно собака.
— Эй, — сказал Симон, — тут все-таки архив.
— Надо же! — сказал Гидеон. — А когда я читал об этом, все представлялось совсем иначе.
— Ты еще скажи, что нас надули…
— Нас надули, — охотно согласился Гидеон. — Ладно, сворачивай свои труды. Пошли.
— Да я не работаю, — вздохнул Симон, — так, дурака валяю. А, привет, Винер.
— Я за вами, — сказал Винер, — Коменски ждет. В дубовом зале.
Он выглянул в окно и грустно сказал:
— Дождь идет.
— Вы что, — удивился Симон, — сговорились? Это самая важная новость за последнее время?
— Там не было дождей.
— Там много чего не было.
— Что ты читаешь? — спросил Винер, заглядывая в книгу из-за спины Симона.
— Вот, откопал в архиве. Пока у Оливии еще дойдут руки до подобной ерунды… ей и с документами возни хватает. Легенды Карпатских гор… что-то в этом роде.
— Интересно, — спросил Гидеон, — у местных до сих пор сохранились старые поверья?
— Частично сохранились. Большей частью, это разумеется, какая-то мешанина… Я записал кое-что, хочешь, прослушай…
— Ты зря ходишь в одиночку, — заметил Винер.
— Они меня боятся.
— Вот именно.
Винер заглянул ему через плечо и вслух прочел:
«Роковая тень нависла над бедной женщиной. Близилась ночь, и вампир в гробу начал шевелиться. Лишь благочестие и доброе сердце прекрасной Матильды могли бы спасти ее несчастного мужа, отравленного ядовитым дыханием Носферату. И она, прижимая к груди заветную ладанку, решилась на отважный поступок…»
— Любили они всякие ужасы, — пробормотал он.
— Чего же ты хочешь? — Симон с трудом подавил желание захлопнуть книгу. Когда кто-то читает у тебя из-за плеча то же, что и ты, кажется, будто он проник в твои мысли. Неприятно. — Мы же в Трансильвании.
— Ну, — сказал Гидеон, который проводил аэросъемку, — не совсем.
— По крайней мере, в месте, которое раньше было Трансильванией. Рельеф правда, здорово изменился.
— Как вы думаете, — спросил Винер, — почему Коменски не сворачивает работы? Все еще на что-то надеется?
Симон пожал плечами.
— Здесь, похоже, уже нет. Может быть, где-то…
— А ты? Тоже думаешь, где-то все-таки живут настоящие люди? Не эти дикари? Если так, почему они не подают о себе знать?
— Быть может, боятся…
— Нас? — удивился Винер.
— Почему нет? Мы прибыли издалека, с непонятными намерениями… боятся же нас местные.