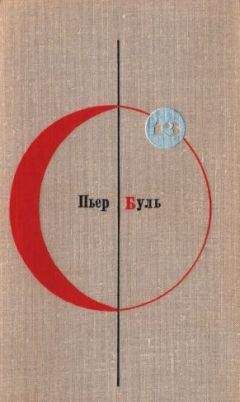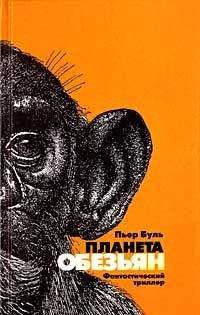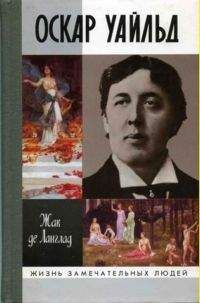Действительно, у обезьяньих малышей тоже есть игрушки, и среди них хоть и нечасто, но попадаются фигурки животных и даже людей. Значит, кукла-девочка сама по себе никак не могла привести мудрого шимпанзе в такое волнение. Но во-первых: у обезьян такие фигурки не делают из фарфора, во-вторых, они очень редко бывают одетыми, и, наконец, они никогда не бывают одеты, как разумные существа. А эта кукла была наряжена, клянусь вам, в точности так же, как наряжают кукол у нас на Земле!
На теле ее сохранились лоскуты, которые, несомненно, были платьицем, корсажем, нижней юбочкой и штанишками. Кукла была одета заботливо, со вкусом, как ее могла бы нарядить земная девочка или как маленькая обезьянка нарядила бы свою любимую куклу-обезьянку, но никогда, никогда ни та ни другая не стали бы с такой тщательностью одевать животное в уменьшенные копии своих собственных нарядов. Теперь я все лучше и лучше понимал волнение моего проницательного друга-шимпанзе.
Но это было не все. Оказалось, что найденная игрушка обладает еще одной странностью, развеселившей всех горилл-рабочих и заставившей улыбнуться даже чванливого орангутанга, их главного руководителя. Кукла говорит. Она говорит, как наши говорящие куклы. Корнелий случайно нажал на кнопку уцелевшего механизма, и кукла заговорила. О, разумеется, она сказала совсем немного! Всего одно слово из двух одинаковых слогов: «Па-па!» «Па-па», — снова лепечет фарфоровая девочка, когда Корнелий поднимает ее и рассматривает со всех сторон, ощупывая чуткими быстрыми пальцами. Это слово звучит одинаково по-французски, по-обезьяньи, да, наверное, и на других языках таинственной вселенной и всюду имеет одно значение. «Па-па», — повторяет игрушка — человеческий детеныш, и, видимо, поэтому морду моего ученого друга заливает румянец, видимо, это переворачивает мне всю душу, и я с огромным трудом сдерживаю слезы, пока Корнелий увлекает меня в сторону, унося с собой драгоценную находку.
— Непроходимый кретин! — бормочет он после долгого молчания.
Я знаю, о ком идет речь, и разделяю его возмущение. Старый заслуженный орангутанг увидел в этой кукле обыкновенную обезьянью игрушку, которую чудаковатый мастер из далекого прошлого для забавы сделал говорящей. Объяснять ему что-либо бессмысленно. Корнелий и не пытается. Ибо то единственно логичное объяснение, которое приходит на ум, кажется ему самому настолько неожиданным, что он предпочитает молчать. Даже мне он не говорит ни слова, но он знает, что я все понял.
До конца дня Корнелий пребывает в молчаливой задумчивости. Мне кажется, ему страшно продолжать эти исследования и он раскаивается даже в том немногом, что успел мне приоткрыть. Возбуждение его прошло, и теперь он, наверное, горько сожалеет, что я стал свидетелем его открытия.
На другой же день мои подозрения подтвердились: Корнелия пугает мое присутствие здесь. Всю ночь он думал, а наутро, избегая смотреть мне в глаза, заявил, что считает мое дальнейшее пребывание среди этих развалин нецелесообразным, а потому предлагает вернуться в институт, где меня ждет более важная работа. Место на самолете мне уже заказано. Я улетаю через двадцать четыре часа.
Предположим, говорил я себе, что некогда люди были полновластными хозяевами этой планеты. Предположим, что более десяти тысяч лет назад на Сороре процветала человеческая цивилизация, сходная с нашей…
Но теперь это уже не беспочвенная гипотеза, наоборот! Едва сформулировав свою мысль, я сразу почувствовал то особое возбуждение, которое охватывает разведчика, когда он среди лабиринта запутанных тропинок находит единственно правильный путь. Уверен, именно этот путь и приведет к раскрытию тайны обезьяньей эволюции. Не зря же я подсознательно всегда искал ответа примерно в этом направлении.
Я возвращаюсь самолетом в столицу в сопровождении секретаря Корнелия, молчаливого, замкнутого шимпанзе. Но мне и не хочется с ним говорить.
В самолете всегда хорошо подумать, поразмышлять. Да и вряд ли мне еще представится лучшая возможность, чтобы разобраться в своих мыслях и чувствах.
…Итак, представим себе, что в незапамятные времена на Сороре существовала цивилизация, подобная нашей. Возможно ли, чтобы существа, лишенные разума, продолжили ее, опираясь только на подражательный инстинкт? Ответить на это утвердительно трудно, однако чем больше я размышляю, тем больше нахожу аргументов, которые делают такую постановку вопроса не столь уж нелепой. Мысль о том, что нам когда-нибудь наследуют усовершенствованные роботы, была на Земле, насколько мне помнится, достаточно широко распространена. С ней соглашались не только фантасты и поэты, но и представители всех слоев общества. И может быть, именно потому, что идея эта внезапно возникла и распространилась в народных массах, она особенно раздражала интеллектуальную элиту. А может быть, и потому, что в ней была доля горькой правды. Всего лишь доля, ибо машина всегда останется машиной, а самый усовершенствованный робот — роботом. Но что сказать о существах, наделенных, как обезьяны, хотя бы зачатками разума? И обладающих, как обезьяны, высокоразвитым подражательным инстинктом? В таком случае…
Я закрываю глаза. Гул моторов меня убаюкивает. Мне необходимо обдумать, обсудить все это, чтобы определить свою позицию.
Что является отличительным признаком цивилизации? Какой-то исключительный дух, гениальность? Вряд ли, скорее — повседневная жизнь? Ну ладно, признаем необходимость духовной культуры. Предположим, она будет выражаться в искусстве, главным образом в литературе. Действительно ли последняя недоступна нашим крупным человекообразным обезьянам, конечно, если предположить, что они научились складывать слова? А из чего, в сущности, состоит наша литература? Из шедевров? Отнюдь нет. Если за одно-два столетия и появляется какая-нибудь оригинальная книга, остальные писатели ей подражают, то есть переписывают ее, и в свет выходят сотни тысяч новых книг, с более или менее различными названиями, в которых говорится о том же самом с помощью более или менее измененных комбинаций фраз. Видимо, обезьянам, великолепным подражателям по своей природе, такая литература вполне доступна, опять же при условии, что они научатся говорить.
Иными словами, единственным серьезным возражением остается язык. Однако будем осторожны! Обезьянам нет никакой нужды понимать, что именно они переписывают, чтобы составить на основе одной-единственной книги тысячи новых томов. Это им не более необходимо, чем нам. Как и нам, им достаточно просто повторять ранее услышанные фразы. А весь остальной литературный процесс сводится к голой технике. И тут мнение отдельных физиологов приобретает колоссальное значение: они утверждают, что никакие анатомические особенности не мешают обезьянам заговорить — было бы только желание! Но вполне можно допустить, что однажды такое желание у них возникло, хотя бы в результате внезапной мутации.