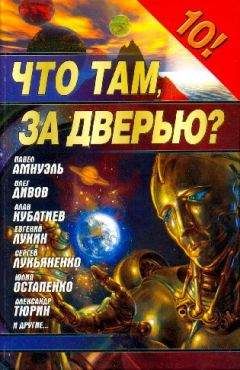— Пусть так, — терпеливо сказал Кастнер, закуривая новую сигарету. — Скажите, вы не заметили в нем что-то удивительное?
— У него удивительная судьба, — мечтательно и почти счастливо сказал Эйхман.
АДОЛЬФ ЭЙХМАН, оберштурмбанфюрер СС, родился в Золингене в 1907 году. В НДСАП с 1935 года. Прирожденный организатор. Весьма одаренный, скурпулезный и трудолюбивый специалист. В СД с 1934 года, прошел путь от рядового картотетчика отдела «11 — 112» до компетентного эксперта по вопросам сионизма и еврейства и позже начальника отдела 1Y-B гестапо. Награжден орденами и медалями рейха. Женат. Прекрасный семьянин. По отношению к подчиненным справедливо требователен и заботлив.
Неоднократно выезжал за границу рейха для выполнения специальных заданий правительства. При выполнении заданий рейха за границей проявил себя с исключительной стороны. Пользуется уважением рейхсфюрера СС. Выполнял специальные задания руководства на восточных территориях рейха, где проявил себя как жесткий и требовательный, но справедливый руководитель.
Из служебной характеристики
Глава пятнадцатая
ЖИЗНЬ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
Среднестатистическая единица безлика.
Никого не ужасает, что ежегодно в автомобильных катастрофах на Земле гибнет около миллиона человек. Ужасает конкретная авария, разбитые машины, кровь и куски тел на асфальте, вопли машин «скорой помощи» и крики пострадавших. Не ужасает сообщение о том, что на Земле ежегодно от голода и болезней умирает более двух миллионов детей. Ужасает конкретный маленький рахитик с вздувшимся животом и потухшим взглядом. Даже узнавая, что на сто тысяч человек приходится сто восемьдесят две тысячи ног, мы не можем высчитать число инвалидов, ведь нам неизвестно, сколько из них потеряли только одну ногу, а сколько — обе.
До сих пор историки спорят, сколько человек погибло в гитлеровских лагерях. Оперируют миллионами и забывают, что каждый ушедший человек — это погашенная свеча и несбывшаяся надежда.
В вонючем бараке задыхались и кашляли среднестатистические единицы, сброшенные рейхом с пространства, именуемого жизнью.
Вчера еще они были разными людьми, еще только подававшими надежды или отгоревшие, словно осень, но чаще полными сил и желания жить. Вчера они были теми винтиками, без которых механизм, именуемый обществом, не мог нормально работать. Но нашелся безумный механик, который разобрал этот механизм и собрал его заново. Оказалось, что адское изобретение этого механика продолжает действовать, но уже без них, и работа, производимая механизмом, стала безжалостной и точной, потеряв без них главное — необходимость человечеству.
Но, устраненные из общества жесткой рукой, они сами не перестали быть людьми. Сколько ни пытайся унизить и произвести в скотское состояние человека, он не перестанет быть самим собой. Унизится тот, кто и при жизни был недалек от животного, станет скотом тот, кто сам жил вожделениями и кормами, человек в любых обстоятельствах останется самим собой.
В канун Рождества немецкий ефрейтор из охраны лагеря, воровато озираясь, сунул Ицхаку Назри увесистый сверток и принялся толкать его прикладом в барак, словно стеснялся своего поступка и яростно сожалел о нем.
В своем углу Ицхак рассмотрел подношение неожиданного волхва.
В свертке было пять круглых хлебов и пять продолговатых рыбин, породы которых никто не знал.
— Бог знает свое творение, — сказал Ицхак. — Дели, Симон!
Откуда-то взялся кусок газеты, в которой доктор Геббельс обещал германским подданным рай. Два пустых спичечных коробка, уравновешенных на нитке, вдетой в иглу, превратились в хитроумные весы.
— Если когда-нибудь Бог будет взвешивать человеческие поступки, — сказал Ицхак, — он обязательно будет делать это на таких вот весах. Именно на них будет видна цена слезам и горю, подлости и коварству…
— Не мешай, — сказал Симон, разрезая суровой сапожной ниткой маленькие куски хлеба на совсем уже мелкие. — Только не говори ничего под руку, ведь так легко ошибиться!
Люди сумрачно подходили к нарам. Иаков, отвернувшись к стене, называл, кому достанется пайка. Хлеб был пшеничным, он совсем не походил на лагерный суррогат, смешанный с опилками. От него пахло домом и прошлым. От рыбных крошек на хлебе исходил аппетитный дух.
— А мои в Освенциме, — сказал Фома, печально разглядывая хлеб. — Хоть бы письмо прислали… Как они там устроились, есть ли жилье… У Исава слабые легкие, надо ему больше гулять на свежем воздухе. Ему всего двенадцать, а врачи одно время даже подозревали туберкулез. Слава Богу, туберкулеза у него не оказалось, просто хронический бронхит. Я не понимаю, почему Руфь не пишет? Кстати, хоть кому-нибудь за последнюю неделю приходили письма от родных?.
Никто ему не ответил.
Фома посидел немного рядом с Симоном и, сгорбившись, побрел на свое место. Все знали, что там, в щели между досками, у него лежит маленькая фотография семьи, которую Фома ухитрялся сберечь во время любых шмонов, которых в лагере было достаточно, ведь поводов к ним охране искать было не нужно.
Рыба и хлеб будили воспоминания о прошлом.
Дитерикс долго по-стариковски облизывал пальцы, потом печально сказал в пространство перед собой:
— У фрау Мельткен на Фридрихштрассе была замечательная кондитерская. Мы с детьми всегда покупали у нее меренги. Боже, какие это были меренги! Она удивительно готовила взбитые сливки. Мы ставили вазочку с меренгами на стол и дети тут же расхватывали все пирожные…
Еще несколько лет назад будущее представлялось нам Зеленой лужайкой… У англичанина Уэллса я читал рассказ… Кажется, он называется «Зеленая калитка»… Странный рассказ о человеке, который в детстве открыл попавшуюся ему на дороге калитку и оказался на цветущей лужайке. На этой лужайке играла мячом пантера. И вот он стал взрослым, но воспоминание о цветущей поляне не отпускает его, и человек, который уже стал к тому времени министром, мечтает найти зеленую калитку и вновь вступить в чудесный мир, где ему было так хорошо. И вот ему кажется однажды, что он нашел такую калитку. Он ее открыл, шагнул вперед — но за калиткой мрак. Там нет лужайки с пантерой! Оказывается, он шагнул в шахту, в которую и провалился…
Иногда мне кажется, что мы все провалились в темную шахту и на дне ее копошатся чудовища…
Это же ощущение было и у Евно Азефа.
Ощущение, что его окружает ад, не отпускало Азефа.
Ночами ему снилось, что из темного угла барака появляется хмурый и сосредоточенный Савинков. За спиной Бориса Викторовича стоит Чернов и держит руки в карманах. Савинков наклоняется, пристально вглядываясь в изможденное лицо своего бывшего боевого руководителя, удовлетворенно кивает и негромко говорит: