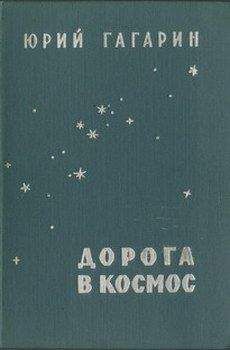— Нет, Федор Нилыч! Не выйдет! — возразил Галлей. — Мы с вами не радиоизлучение, а физические тела, разгоняемые до скорости света. Мы достигаем этого предела, а не скорость света разгоняет или притормаживает нас. Это флюктуация предела, а не физическое его воздействие на наш полет. Так что никаких рывков от этого быть не может.
— Так уж и не может, — упрямо возражал Федоров.
— А вы поймите, что кванты вакуума — это как бы на пружинках вибрирующие под влиянием электромагнитного излучения протоны и антипротоны. При банальной электромагнитной буре этот процесс для нас отнюдь не банален, ибо в своих крайних положениях частички вещества и антивещества уже не полностью компенсируют физические свойства друг друга… Тогда и начинают проявляться эти скрытые в «состоянии пустоты» физические свойства материального вакуума, появляется некая его плотность, молниеносно возникающая и исчезающая. И эти песчинки как бы «жалят» летящий в вакууме предмет (при магнитной буре, разумеется, и при субсветовой скорости движения).
— Это как же выходит, — начал сдаваться штурман, принимая объяснения физика. — Вроде комары появляются на нашем пути. И жалят проклятые.
— Не столько комары, сколько «космический наждак». При малых скоростях он незаметен, но при субсветовой скорости за единицу времени приходится столько столкновений с «ожившими» квантами вакуума, что они в состоянии перетереть буксир.
— Может быть, и так, коли не врешь, — окончательно сдался штурман, поворачиваясь на другой бок, хотя в условиях новой для них невесомости в этом, казалось бы, не было смысла.
— Любопытно, — вставил теперь Крылов. — Я вот развиваю твою гипотезу и прихожу к выводу о чисто физическом пределе, что возникает в вакууме при световых скоростях.
— Правильно! — обрадовался Галлей. — И я так же думаю. При световой скорости проницаемость вакуума, его «свойство пустоты» исчезает! Тело не то что упрется в преграду, но, достигнув скорости света, будет ощущать уже иные свойства вакуума, который становится непроницаемым, и тело сможет двигаться лишь с субсветовой скоростью. Потому-то и невозможно превышение движущимся телом скорости света.
— Ты считаешь, что при достижении скорости света мы упремся в твердую стену?
— Не то что упремся, а вынуждены будем как бы скользить вдоль нее.
— Лихо, ничего но скажешь! — похвалил Крылов. — Ради одного этого стоит вернуться на нашу матушку-Землю.
— Очень… очень понятно, — согласился штурман. — Но лучше бы этого не было.
— Конечно, лучше бы этого не было, — отозвался командир, — но раз уж случилось, будем вести себя достойно, продолжать жизнь в модуле до прибытия помощи с Земли.
— Да я о том же думаю, — признался Федоров. — Вот и прикидываю, сколько времени наш сигнал до Земли будет идти. Ведь расстояние-то какое мы за год преодолели! Радиосигналам по меньшей мере полгода понадобится, чтобы до Земли добраться.
— Это по земным часам, Федор Нилыч. А по нашим звездолетным — несколько минут, — разъяснил Галлей.
— Это он верно прикидывает, — поддержал его Крылов. — Ежели Эйнштейн прав, конечно.
— А если бы он был не прав, с нами ничего не случилось бы, — быстро ответил Галлей.
— Может, и впрямь от этой теории относительности нам хоть кое-какая польза будет, — пробурчал штурман. — Спасателям их год разгона, а у нас какие-нибудь сутки. Так, что ли?
— А я о другом думаю, — сказал Галлей, — кроме масштаба суток.
— О чем еще? — спросил Крылов.
— Догадаются ли на Земле, что наши сигналы будут чрезвычайно растянуты во времени. Их можно и не заметить.
— Это почему? — возмутился Федор. — Ты что думаешь, я их неладно передавал?
— Нет, не от тебя это зависит, а от масштаба времени, в котором ты, да и все мы сейчас живем, но там, увы, неизвестном.
— Ну и загибаешь ты, Вася, с масштабом времени. Я, пожалуй, для его сокращения всхрапну.
И штурман, быть может, и в самом деле утешившись, что его сигналы примут и помощь придет быстро, действительно уснул, бесспорно сокращая этим время на остатке звездолета.
Командир не спал и чутко прислушивался к тревожным вздохам Галлея, пока дыхание того не стало ровным.
Крылов думал о далекой Земле, о рыженькой дочурке Наде, увлекавшейся математикой и планеризмом, о жене Наташе, сдержанной и гордой, никогда слова не говорившей мужу, что он покидает ее. И Надю она не останавливала в ее причудах. Одно увлечение французским языком и историей Франции чего стоило! Притом непременно по первоисточникам на старофранцузском языке. Что-то из девочки выйдет? Чего доброго, совсем взрослой он ее застанет, то ли профессором математики, как Софья Ковалевская, то ли историком, постигшим все романские языки вместе с латынью, что с таким трудом ему самому давалась.
— Командир! — вдруг послышался рядом голос проснувшегося Галлея.
— Я не сплю, — отозвался Крылов.
— Мне приснилось, что она прилетела за нами.
— Кто? Надя моя? — невольно назвал ее Крылов.
— Нет, что вы! Кассиопея.
— Ну, она, брат, не полетит. Это тебе взамен кошмара привиделось. Посмотри лучше, как штурман спит.
— Уж очень храпит, прямо под ухом.
— Ну и ты храпи.
— Я постараюсь, — пообещал Галлей, поудобнее устраиваясь под ремнями на койке.
Крылов еще долго смотрел в широкий иллюминатор, за которым ярко и мертвенно, не мигая, горели чужие, совсем не земные созвездия.
— Далеконько мы от матушки-Земли, — вздохнул Крылов и спокойно уснул.
Оторвавшаяся от головного модуля жилая кабина звездолета продолжала по инерции рассчитанный компьютерами путь среди чужих звезд.
Часть третья
ТРЕВОЖНАЯ ИСТИНА
Попробуй выполнить долг, и ты узнаешь, кто ты есть.
В. Гёте
Глава первая. СИГНАЛ БЕДСТВИЯ
Быть верным долгу в несчастье — великое дело.
Демокрит
Никита Вязов был предупрежден Бережным о предстоящей видеопередаче из Кембриджа.
— Англичане решили нас чем-то удивить, — со смешком объявил он матери.
Елена Михайловна слишком хорошо знала сына, чтобы не заметить морщинку меж бровей на его старательно спокойном лице. Очевидно, дело очень серьезное.
Она подготовила видеоэкран и даже остановила старинные часы с курантами, чтобы они не тикали слишком громко и не стали бы бить во время передачи.
Мать с сыном уселись перед экраном. Каждый думал о своем. Елена Михайловна, напряженно спокойная, заставляла себя примириться с неизбежностью полета сына в космос, долгих четырех лет разлуки с ним и своего одиночества.
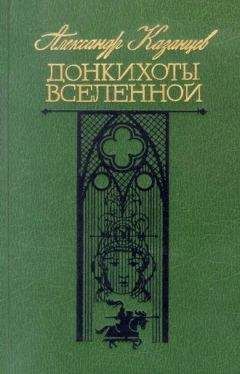

![Сергей Лукьяненко - Пристань желтых кораблей. [сб.]](https://cdn.my-library.info/books/48230/48230.jpg)