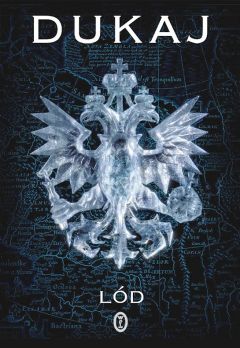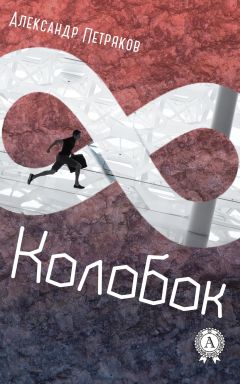В конце концов, редактор стащил у боевика перстень с пальца и вытолкал троцкиста из конторы.
— У кого он его украл? — спросил я, застегнув пальто, рукавом кровь с лица стирая, осторожно ощупывая покрытый синяками глаз.
Тот лишь пожал плечами.
— Портные, сапожники, тряпичники, — просопел он, — вот, таково у них понятие народной справедливости: отобрать у богача. И чего удивляться нищей темноте? Ну ладно, идемте, идемте, нам необходимо вас проводить, чтобы Победоносцев не искал потом на нас крючков. Куда это вы шли?
— В Городскую Больницу.
Меня доставили на границу района, удерживаемого национал-демократами, за Байкальскую от старой речной пристани, сразу же к западу от Иннокентьевского. Тем временем, задождило еще сильнее, тучи затянули ночное небо над Иркутском, так что форма города полностью размазалась на тенях, более глубоким, чем тени: сплошное пятно мрака, разлезшаяся мазня; чернота, расползшаяся в маслянистое ни то — ни се. Только и видел глазом, стиснутым опухолью, заливаемым дождем и розовыми выделениями: как все это плывет, как перетекает из одного очертания в другое, хуже того, распихивая всяческие линии очертания. Мираже-стекольных очков у меня не было — город растворился сам.
Я проковылял через пограничные улицы, прячась под стенами. В башенках и мансардах Городской больницы горел свет, лишь благодаря ему я узнал ее здание. Как после пожара 1879 года, так и после Большого Пожара в 1910 году, в Иркутск вызвали множество молодых архитекторов, увлеченных мировыми модами, чтобы те изменили обличье байкальской метрополии. А с началом эпохи Льда были навязаны дополнительные обстоятельства: зимназовая технология и обеспечение безопасности перед лютами; только реставрация осуществлялась слишком быстро, чтобы эти обстоятельства значительным образом отразились на образе центра. Но вот Городская Больница была отстроена с двухлетним опозданием по причине каких-то скандалов, связанных с растратами; в конце концов, свои средства подбросило Восточно-Сибирское Общество Красного Креста, отдавая лечебницу под управление Собрания Сестер Милосердия. Тем временем, больница получила совершенно новый проект, так что возведенное здание соответствовало более пейзажу Холодного Николаевска: с первым этажом высотой в несколько аршин, на зимназовых опорах, выхоложенных в ажурные формы, со стенками, заключенными в громадные плоскости мираже-стекла, с дюжинами неоготических эркеров и растительными узорами в стиле «ар-нуво», запущенными в пилястрах и рельефах между окнами.
Огни горели в восточном крыле; только лишь когда я подошел под само здание, увидел, что неосвещенное крыло провалилось в размороженную почву — ненамного, где-то на аршин, но этого хватило, чтобы полностью распороть многоэтажную конструкцию и выломать из рам громадные листы мираже-стекла. Точно так же, как отсекают от организма конечность, охваченную гангреной, так и здесь, от здоровой части больницы отсекли часть отмершую. Жизнь и свет существовали справа от лестниц и лифтов.
Где хаос царил даже больший, чем в Святой Троице. В первую очередь, сразу же после входа в вестибюль, я попал на душераздирающую сцену: две заплаканные дамочки тормошили грязный сверток, их же, в свою очередь, оттаскивали сестрички милосердия; в скандал включились мужчины и даже легкий на подъем вооруженный молодой человек. Я обошел их подальше. Сестричка, заметившая меня у регистратуры, тут же взялась обвязывать чистыми бинтами мою голову, поливая раны раствором перекиси водорода или другим каким средством для убийства бацилл; сестричка, добрая душа, рассказала, что трагедия в вестибюле случилась по причине крысиной горячки: ребеночек умер, и его нужно сжечь, ведь зараза распространяется. Крематорий у них был в темном крыле.
Я достал плотный лист из брезентовой упаковки (тот раз и другой выпал из распухших пальцев). Вот такая молодая женщина, такой вот доктор, по фамилии Конешин — не знает ли их сестра?
— Доктор Конешин оперирует в семерке.
Разумеется, она ошибалась. Под седьмым номером (где было целых три зала: 7А, 7Б и 7В) никакие операции проводиться не могли: эти помещения находились уже за линией разлома, ветер нагонял туда дождь через выбитые окна на оборудование, лежащее кучей под нижними стенами. Пришлось обойти весь операционный этаж. О состоянии всеобщего бардака лучше всего свидетельствовал тот факт, что я ходил здесь свободно, человек с улицы, в пальто, еще истекающем водой — там отрезанная нога, здесь десяток коек с несчастными, стонущими в муках, вот тут куча багровых бинтов на выпотрошенных внутренностях; вот тут — сложные роды; а здесь грудь с ребрами, распахнутые настежь, вон там — очередь оставшихся в живых после ночной перестрелки — и никто на меня даже не поднял удивленного взгляда. Сестрички с полными руками шастали туда и назад, без какого-либо внимания пробегая мимо людей в коридорах. Господа врачи — работавших здесь в эту пору я насчитал четверых, то есть, по-видимому, все, которых удалось собрать, ночь была кровавой, военной — громко требовали те или иные медикаменты, воду, свет, чистые тряпки и кого-нибудь в помощь. Арочные витражи, размещенные над дверями помещений, где доктора работали, представляли евангельские сцены, в основном, излечение больных и изгнание злых духов; Иисус на них всегда был повернут спиной, от других он отличался лишь освещенной фигурой.
Под номером 3В (витраж со стадом свиней, в которых вселились бесы) доктор Конешин, пластающий легкое какому-то толстяку с головой, перевязанной в сплошной шар, громко требовал дренажей и ниток; я нашел их двумя помещениями далее. Сестра, ассистирующая Конешину, поблагодарила меня, не выпуская из вложенных в грудь пациента пальцев пульсирующего сплетения жил. Воняло керосином, кровью и гнилью, прежде всего — керосином: операционный стол со всех сторон был обставлен керосиновыми лампами, коптящими в потолок. — Не заслонять, не заслонять, — забурчал рыжий доктор, перемещая языком по губе короткий окурок, как только я приблизился к столу. Я обошел зал под мираже-стекольными окнами, погружаясь в кучах заскорузлых бинтов и тряпок, порезанной одежды и вырезанных фрагментов тел. — Господин доктор, — спросил я, опираясь о зимназовое оливковое деревцо, встроенное между высокими окнами, потому что от усталости, боли и постоянного напряжения у меня начала кружиться голова, — господин доктор, где я могу найти госпожу Муклянович? — Не сейчас, — рявкнул тот, — не сейчас! Погодите, она ведь только в дневные часы помогает, адреса я не знаю. Ее смена приходит в семь. Хмм, еще умрет, такой-сякой сын!