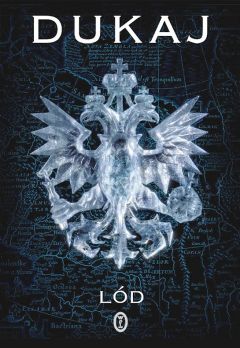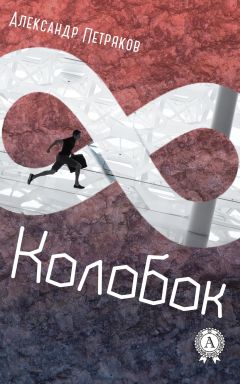Я сел на табурете в углу. Вся горячка из меня сошла, я остыл. Кровь стекла к ногам, к опущенным ладоням. Трость стукнулась о пол. Пришлось прижать голову к стене, в противном случае, она соскочила бы с шеи, скатившись влево или вправо. Повязка на глазу сползала все ниже, так что всю эту сцену, залитую медовым светом ламп — с доктором, поблескивающим очочками в серебряной проволочной оправе, в запятнанном органическими выделениями халате, с белой сестричкой и громадной тушей, разделываемой на катафалке — я видел на половину, на четверть, на одну восьмую. Доктор действовал внутри дышащего тела движениями кухмейстера, который в стотысячный раз режет морковку и рубит свеклу: раз, два, три, четыре, подрезать, вырвать, передвинуть, сшить. С сестрой он общался без слов, они совершали над телом ритуал столетней давности, ничего нового между человеком и материей. Но как же он постарел — похудел, иссох, сделался меньше, даже его бакенбарды, когда-то буйные, тоже усохли, теперь левый пересекал широкий, молочно-белый шрам; так доктор Конешин потерял, утратил свою симметрию… Я спустил повязку на глаз.
В себя я пришел уже в бледном свете дождевого рассвета.
Повязку сорвал.
— Который час?
— Четверть седьмого. — Доктор Конешин копался скальпелем в груди толстяка, постепенно освобождал зажимы, вытаскивал дренажи, клещи и щипчики, крючки и захваты, только все он это делал нечетко, нехотя, одной рукой, во второй держа свежую папиросу. — По закону, я должен был бы вас выбросить, но — сукин сын и так сдох. — Он затянулся дымом, откинул голову практически горизонтально и выпустил его под потолок. — Эх, снова молодой! Чуть ли не как в фронтовые дни.
С улицы, приглушенный дождем, донесся отзвук одинокого выстрела.
Доктор захихикал, стряхнул пепел на сердце трупа и поднял на меня чистый, трезвый взгляд — столь трезвым человек может быть только на рассвете после бессонной ночи: нервы наверху, кожа словно пергамент, мозг пульсирует во вскрытом черепе.
— Вы от них, возможно? Чего вы хотите от mademoiselle Елены?
— Всего. — Я поднялся, протягивая ему руку над операционным столом. — Бенедикт Герославский.
— Вы? — Он нацелил в меня ланцет, прищурил левый глаз, глянул по линии, направленной над стеклами очков. — Ерославский. Ерославский? Ерославский. А покажите-ка рожу! Мммм. Н-да, неплохо должны были вас обработать.
Он переложил ланцет в другую руку, опер правую о халат и пожал протянутую ладонь.
— Вы же должны были лечить Белую Заразу в тихоокеанских портах, — сказал я.
— Похоже, ее вылечил доктор Тесла. Бум, бум, бум. А я застрял в Иркутске на полпути, пытаясь возвратиться в Европу Транссибирским Экспрессом; и это не было разумным решением. Мхммм. — Он вновь затянулся папиросой. — Да, я хорошо вас помню. Franchement[429], я часто потом размышлял, как пойдет у вас дело с фатером и с Историей. А теперь, пожалуйста, великий Никола Тесла… Мхммм. — Он приглядывался ко мне сквозь дым. — И разве неправда? Все-таки, вы свернули историю, поуправляли Льдом. Не уговаривая лютов посредством отца, как все того ожидали, но раньше, во время поездки Транссибирским Экспрессом. Судьба была нацелена на смерть доктора Теслы и длительное царствование Льда, теперь это ясно видно, а вы, дайте-ка посчитаю, вы упрямо: раз, от покушения изменившего охранника, два, воскресив его из мертвых, три, бомбиста вовремя раскрывая — все время вы спасали Теслу от предназначенной ему судьбы.
— Вам панна Елена рассказала.
— От других тоже слышал. Когда серб объявился в Макао… Мхммм.
Я опустил глаза.
— Да, у меня тоже бывает подобное впечатление. Будто бы все самое главное случилось во время поездки Транссибирским Экспрессом.
Доктор смолчал, пыхая щиплющим глаза дымом.
Я снял пальто, перебросил его через руку. На размытом над городом горизонте, за мираже-стекольным окном, где и так все плавало в дожде, проползали более светлые, более яркие пятнышки. Там, на западе, к югу от Уйской — похоже, горит Глазково. По крайней мере, хоть в этом мокрая непогода сейчас является благословением для Города Оттепели, поскольку она загасит пожары после ночи правдобоев.
Глаз невольно возвращался к внутренностям разрезанного трупа. Слетались первые мухи. В анатомических атласах Зыги все это выглядело совершенно иначе, duodenum, jejunum, ileum[430], там это были чуть ли не схемы промышленных машин: вот это такая деталь, то — такая, вон эта — служит для этого, а вон та — прицеплена вот к тому. А здесь: как будто бы кто-то топорно вытесанным черпаком помешал в раскрытом человеке, один бигос, единая коричнево-красно-желто-фиолетовая мешанина с застрявшими в ней кусками мяса потверже. Из праха человек появился, и прах в себе носит.
— Покажите-ка. — Доктор Конешин сделал ко мне шаг от ног покойника, протягивая руку к подбородку, к щеке.
Я отвел его руку.
— Ничего!
— Возможно, удалось бы выпрямить… Это все плохо срослось. Кто вам делал трепанацию?
— Никто.
Он все еще мерил меня скептическим взглядом.
— Вы что, — фыркнул я, — все еще балуетесь френологией?
Тот медленно снял халат.
— Тогда, в поезде, вы казались мне таким…
— Каким?
Доктор бросил халат на автоклав, рукой с папиросой сделал пустой, ничего не значащий жест.
— Никаким.
Я засмеялся.
— Знаю.
Тот подозрительно глянул исподлобья. Весы склонялись в мою сторону, линии сходились к моему глазу, глаз в этот момент удерживал доктора Конешина словно плененное в янтаре насекомое.
Он вздрогнул.
— Что, великой жизненной мудрости набрались?
— Жизненные мудрости я оставляю раввинам и пожилым проституткам. Скажем так, я открыл несколько законов, управляющих Математикой Характера.
— Например?
— Характер человека образуется путем вычитания.
Подозрительность нарастала в нем с каждой секундой. Сейчас он обходил меня по безопасной дуге, шагов на пять, словно матадор быка. Рука с дымящейся папиросой служила мулетой. Синий брюхатый труп служил в качестве защиты.
— Mademoiselle Елена показывала, что о вас в последнее время писали. Здесь всякая газета — это нахальная пропаганда, вранье на вранье. Но я помню и директора Поченгло. Сейчас вы вместе творите абластническую политику. Мммм?
— Себя я политиком не считаю, если вы спрашиваете об этом. Это уже устаревшее ремесло.
Асимметричный доктор приостановился, поставил ногу на нижней перекладине операционного стола. Из раскроенного толстяка вытекали последние капли жизни. Конешин нагнулся ко мне над ним, пытаясь войти в позу доверительности, несерьезных откровений.