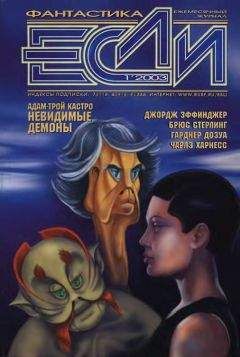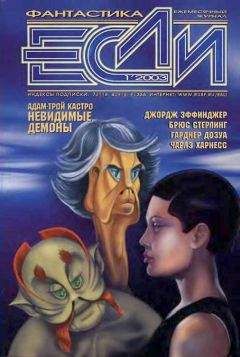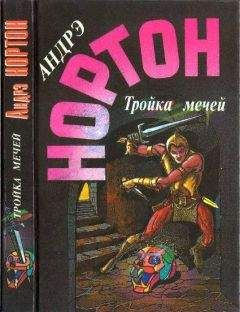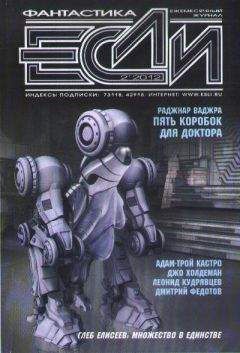Теперь он резко повернул голову, смело встретив ее взгляд.
— Я отказался бы. Если бы это означало потерять тебя.
— Неужели ты действительно этому веришь, лицемерный ты ублюдок? — печально проговорила она, смеясь и качая головой.
Цудак не отрывал от нее глаз. Немного помолчав, она потянулась и взяла его за руку. Он ощутил тепло ее пальцев, вдавившихся в его плоть. Впервые за сорок лет она коснулась его!
— Я скучала по тебе, — призналась она. — Вернись ко мне.
Он отвел взгляд, а когда снова огляделся, она исчезла. Без следа. Без малейшего шевеления воздуха, отмечавшего ее уход. Да была ли она здесь?
Он продолжал сидеть. Долго. Молча. Века. Миллиарды лет. Время, достаточное, чтобы континенты сдвинулись с места и горы расплавились и хлынули вниз водой, а тени сгустились и день медленно перетек в вечер. Аромат Эллен висел в воздухе, пока не испарился, словно мучительное сожаление. Часы все еще шли, он знал это, и не только по тиканью.
Нужно принять решение. Наметить план действий. Сейчас. Так или иначе. Это его поворотный пункт.
Нужно принять решение.
Царило ли когда-нибудь такое спокойствие в суетливой, жестокой, кровавой истории мира? В молодости он часто искал уединенные места, исполненные святого молчания: отдаленные участки пустыни, опустевший пляж на рассвете, места, где можно без помех поразмыслить, где достаточно просто быть, впитывая жизнь всеми открытыми порами… но теперь он обрадовался бы самому простому и обычному звуку: лаю собаки, шелесту шин по тротуару, пению птички, голосу человека, что-то недовольно вопившего на улице. Все, что угодно, лишь бы знать, что связь с миром все еще не прервана, что он еще способен принять передаваемый сигнал реальности своим едва работающим приемным устройством. Еще жив. Еще здесь. Иногда посреди холодной равнодушной ночи, когда тени отточенными бритвами скользили у его горла, он включал какое-нибудь очередное нет-шоу, где говорящие головы с энтузиазмом обсуждали безразличные ему проблемы, и позволял им болтать ночь напролет, пока не поднималось солнце, прогонявшее кладбищенские тени. Ничего не поделаешь, иллюзия компании. Хотя бы это. Хочешь не хочешь, а тебе необходимо что-то, некое подобие шума, хотя бы лишь для того, чтобы противостоять тишине и одиночеству, наполняющему твою жизнь, отвлечь тебя от дум о том, что ждет впереди: последнем, нерушимом молчании смерти.
Он вспомнил, как мать последние несколько десятилетий своей жизни после смерти отца каждую ночь засыпала на диване с включенным телевизором. И никогда не ложилась в кровать, стоявшую всего в нескольких футах, у другой стены ее маленькой квартирки. Она часто повторяла, что любит оставлять телевизор включенным «ради шума». Теперь он это понимал. Глубокая, созерцательная тишина — не лучший друг в старости. Она позволяет тебе слишком внимательно прислушиваться к крови, натужно прорывающейся в жилах сквозь склеротические бляшки, и затрудненному биению сердца.
Боже, как тихо.
Он вдруг вспомнил путешествие с Эллен, которое произошло целую жизнь назад. Свадебное путешествие, медовый месяц: они провели его, исследуя калифорнийское побережье, и как однажды, уже в сумерках, как раз к северу от Биг Сер, по пути в Монтерей, где они должны были остаться на ночь (и где предавались любви столь страстно, что перевернули узкую кровать, и тот тип в номере внизу яростно колотил в потолок, чем вызывал неудержимый смех, несмотря на честные попытки угомонить друг друга — но как можно молчать, когда они растянулись на полу, в путанице смятого постельного белья, мокрые от пота), они ненадолго остановились полюбоваться открывшимся впереди видом. Тогда он выбрался из машины, в темноте, прислушиваясь к дыханию невидимого океана слева, поднял голову и поразился, сколько звезд высыпало на небе, целые скопления светящихся точек, окруживших их двоих со всех сторон, если не считать тех мест, где черные очертания холмов выхватывали целые куски звездного кружева. Звезды повсюду, миллионы звезд, пылающие ледяным пламенем, безразличные, величественные, далекие.
И тогда он понял, что если смотреть в ночное небо слишком долго чувствуя, как прохладный соленый ветер доносится с недремлющего океана, прислушиваясь к гулкому реву волн, разбивающихся о подножья скал, то стужа звезд начинает просачиваться в тебя, и становится не по себе при мысли о том, как безбрежна Вселенная и как мал человек по сравнению с ней. От таких мыслей лучше отрешиться, пока эта стужа не проникнет в тебя чересчур глубоко. Следует оторваться, отмахнуться от них, попытаться вновь погрузиться в свою крошечную человеческую жизнь, сделать все возможное, чтобы вновь проникнуться убеждением, что гигантское колесо Вселенной вращается вокруг тебя, и не только Вселенная, но вообще все и вся: горы, бескрайний, мерно рокочущий океан, само небо, все они, ставшие подручными, копьеносцами или просто театральными задниками в единственной в своем роде драме твоей жизни, крайне важной драме, непохожей на все, что ставились прежде…
Но, оказавшись лицом к лицу с истинными просторами Вселенной, ощутив этот лед внутри, оставшись один под звездами, с трудом заставляешь себя стряхнуть тревожное чувство, что ты всего лишь мельчайшая частичка материи, существующая в ошеломляюще коротком периоде времени, не измеряемом даже мгновениями геологического времени, отмечающего рождение и умирание гор и морей, не говоря уже о бесконечно больших часах, отбивающих поворот гигантского пылающего колеса галактики вокруг себя или оборот одной галактики вокруг другой. Это едва видное мигание космического Глаза все же способно занять целые эры: чересчур долго, чтобы вообще заметить твою жизнь.
И что значит понятие «бессмертия» — все равно, человека или машины — против необозримости, беспредельности подобного рода? С этой точки зрения, миллион лет или один день — все равно.
В виске запульсировала кровь. Головная боль, вызванная напряжением? Или удар? До чего жестоко пошутит судьба, если в мозгу взорвется сосуд и убьет его, прежде чем он успеет что-то решить!
Так или иначе, времени почти не осталось. Сегодня закончится либо его телесная жизнь, либо земная. В любом случае, сюда он не вернется.
Цудак медленно оглядел комнату, изучая каждую деталь. Вещи пробыли здесь так долго, что почти слились со стенами, и он больше не замечал их, хоть и смотрел на них каждый день: бронзовые колокольчики, висевшие над задней дверью, купленные им вместе с Эллен, резной стеклянный шар в связанной из ниток паутине, большая коричневая с кремовым ваза из захламленной сувенирной лавчонки в Сиэттле, керамическое солнце, привезенное из Альбукерке, заводная игрушечная карусель, игравшая вальс. Знакомые кружки, чашки и миски, за эти годы совсем истершиеся. Забранный в рамку постер, пожелтевший от времени. Одна из мягких игрушек Сэма, плюшевый тигр с полуоторванным ухом, засунутый на полку высокого кухонного шкафа и так и прижившийся там с незапамятных пор.