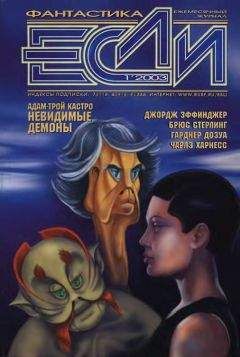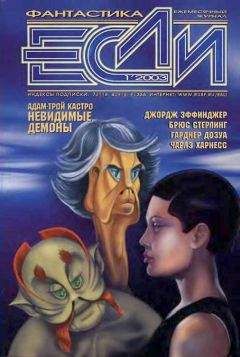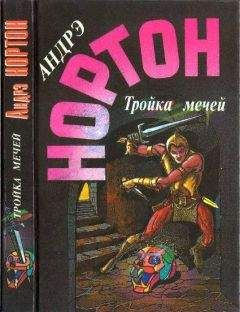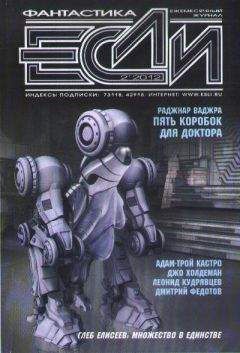Невероятно, что избавившись от фото Эллен, стараясь ни в коем случае не натыкаться на него, не говоря уже о том, чтобы снова выставить напоказ, он сохранил остальные вещи, свидетельства прожитых вместе лет, словно подсознательно ожидал ее возвращения. Верил, что она придет. Вновь окажется в его жизни так же легко, как ушла из нее, и новый отсчет начнется с этой минуты. Но этому не суждено было случиться. Если им и предназначено быть вместе, то очень далеко отсюда и в невообразимо странных условиях. Найдется ли у него мужество осознать это? Возьмутся ли у него силы начать новую жизнь? Или его душа слишком состарилась, слишком устала, слишком потускнела и уже не возродится, какие бы трюки ни проделывали с его физическим телом?
Джозеф снова яростно размахивал руками над головой. Он вывел камердинера из ограниченного режима, и тот немедленно появился перед кухонным столом, каким-то образом ухитряясь выглядеть взволнованным.
— У меня послание Высшей Очередности для вас, сэр, хотя не знаю, откуда оно пришло и каким образом было введено в мою систему. Всего три слова: «Времени осталось мало», и…
— Знаю, Джозеф, — перебил Цудак. — Но это неважно. Я только хотел сказать тебе…
Цудак помедлил, неожиданно растеряв остатки самообладания.
— Я только хотел сказать: что бы ни случилось, ты был мне хорошим другом, и я это ценю.
Джозеф как-то непонятно на него посмотрел.
— Разумеется, сэр, — обронил он. Смог ли он понять, в чем дело? Подобные речи были далеко за пределами параметров его программы, даже при наличии адаптируемых обучающих алгоритмов. Но послание…
Цудак произнес привычное заклинание, и камердинер исчез. Раз — и все. Испарился. Пропал. А если его больше никогда не задействуют? Имеет ли это для Джозефа какое-то значение? Даже знай он наперед, что никогда не понадобится, что с этого момента для него не будет ничего, кроме пустоты, тьмы, небытия, ему все это безразлично…
Цудак встал.
И когда шел к двери, сообразил вдруг, что путешественники во времени все еще тут. Ряд за рядом наполняли комнату толкающиеся призраки, тысячи, возможно, миллионы, невидимые глазу, чье присутствие он бесспорно ощущал. Выжидают. Следят. Следят за ним. Он остановился, потрясенный, испуганный, впервые поверивший, что путешественники во времени — реальное явление, а не бред его угасающего мозга.
Так вот для чего они пришли. Вот что хотят видеть. Этот момент. Его решение.
Но почему? Неужели они так интересуются давно случившимися и никому не интересными политическими скандалами, что явились стать свидетелями того, как он предает свои политические принципы? Вероятно, многие из ныне живущих дорого заплатили бы, чтобы вернуться в прошлое и своими глазами увидеть, как Бенедикт Арнольд переходит на сторону англичан note 12 или как Никсон приказывает начать операцию «Уотергейт». Что если они — торжествующие будущие потомки членов партии мяса, с нетерпением дожидающиеся той героической минуты, когда он гордо бросит в тефлоновое лицо механизма отказ от предложения бессмертия? Или они стремятся увидеть рождение новой жизни, после того как он примет предложение?
Но кто они? Остатки человечества, живущие в будущем, отстоящем от нынешнего момента на миллионы лет и эволюционировавшие в странные существа с богоподобными способностями и возможностями? Или отпрыски механизмов, превратившиеся в свои призрачные подобия?
Он шагнул вперед, ощущая, как тени соглядатаев расступаются и снова смыкаются за спиной. Он по-прежнему не знал, что сделает. С какой легкостью он принял бы это решение, когда был молод! Молод, силен и уверен в своей правоте, полон гордости, решимости и честности. Он бы с негодованием и отвращением отверг предложение механизма, ни секунды не колеблясь, зная, что прав. Однажды, давным-давно, он так и поступил. Преподал им достойный урок, внушил, что Чарлза Цудака не купишь ни за какие блага. Он не продается!
Теперь такой уверенности уже не было.
С трудом ковыляя к входной двери, ощущая, как каждый шаг отзывается в голове острой болью, как ноет колено, он вдруг остановился, осознав, каково это — снова стать молодым, внезапно оказаться молодым, сразу, в одну секунду! Избавиться от всех хворей и унижений преклонного возраста, словно сбросить бесполезную кожу! Опять чувствовать жизнь, реально чувствовать, утонуть в жарком гормональном приливе бушующих эмоций, водовороте запахов, звуков, вкусов, зрелищ, касаний, полнокровных, живых, не прячась за изолирующей стеклянной стеной, пить большими глотками жизнь, громкую, вульгарную, ревущую во всю глотку, а не шепчущую медленно угасающим голосом умирающего радио, жизнь, до которой ты можешь дотронуться своими руками, и все твои нервы при этом дрожат прямо под кожей. Совсем не то, когда мир час за часом отнимают у тебя, вытягивают из пальцев этот удаляющийся, тающий с недовольным бормотанием мир, словно отлив, откатывающийся на мили от берега…
Цудак открыл входную дверь и ступил на высокое крыльцо из белого мрамора.
Телесные перенесли демонстрацию из парка к его дому и теперь расположились лагерем, заполнив близлежащие улицы и перекрыв движение. Они по-прежнему били в барабаны и дули в дудки, хотя в доме ничего не было слышно: возможно, дело рук механизма. Гигантская волна звука ринулась навстречу ему и накрыла с головой, стоило только открыть дверь. Едва он появился на крыльце, как вопли и вой стихли, дудки и свистки стали захлебываться и замолчали один за другим. Растерянная тишина сковала толпу, но распространилась не сразу, а постепенно, как круги по воде от брошенного камня, пока не воцарилось выжидательное молчание, состоявшее, однако, из шепотков, бормотания и туманных звуков. Но вскоре смолкли и они, словно весь мир разом затаил дыхание в настороженном ожидании, и он смотрел на море напряженных лиц, повернутых к нему, как подсолнухи — к солнцу.
Теплый ветерок пронесся по парку и прилетел сюда. Тот самый, из дальних уголков земли. И принес запахи магнолии, гиацинтов и свежескошенной травы. Он колыхал ветки деревьев, шурша листьями, заставляя их трепетать. К западу горизонт превратился в сверкающее царство облаков, переливавшихся раскаленным золотом, зеленым, алым, коралловым, яростно-пурпурным: достойное обрамление солнца, сиявшего оранжевой монетой и балансирующего на самом краю мира. Уходящее светило, готовое покачнуться и упасть вниз. Остальное небо было по-прежнему окрашено нежно-голубым и только к востоку, где простирался далекий океан, выцветало до сливово-серого. Полная луна уже поднималась, идеальный бледный диск, смахивающий на желтоватое лицо, с ленивым любопытством глазевшее на древнюю землю. Где-то в сгущавшихся сумерках запела птица, выводя сложные трели.