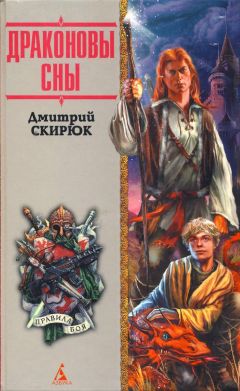— Эт' точно… — угрюмо закивал Иван, замялся, смущенно огляделся по сторонам и, понизив голос, заговорщически зашептал: — Слышь, друг! А может, ты мне кого присоветуешь? Я б его ухлопал — глядишь, и мне слава, и тебе польза. Бабу-Ягу, там, или Кощея Бессмертного. А?
— Ягу не трожь, — сердито сказала Средняя голова. — Да и если Змеев где увидишь — тоже не лезь. А не то — под землей найду, да там и оставлю. А Кощей помер намедни.
— Ишь ты! — поразился тот. — Как это? Как это помер? Не могет такого быть! Он же бессмертный!
— Ни лешего ты не смыслишь в наших колдовских делах. Кощей — он и есть Кощей. Сволота одна. Из вас он вышел, из людей. Ал… хи… Тьфу! Ал-хи-мией да магией всякого колдовства поднабрался. Вреднючий был — страсть! Сущий бес. Его окрестная нежить так и прозвала — «Кощей — Бес Смертный». Помер он. Над златом зачах. Опыты какие-то с ним делал, ну и траванулся. А жаль — ты б мог его уложить… ежели, конечно, сам бы жив остался.
— А вот Соловей-разбойник… Его как? Можно?
— А! Вот его можно, можно! — оживилась Левая голова, вспомнив, что оный вражина хозяйничает в местах отдыха Скарапеи Аспидовны, и две другие головы согласно закивали. — Ентот гад, Соловей-хан со своими головорезами третий год в Муромских лесах никому проходу не дает. Режет всех. Ты его излови, коли не добрались еще до душегуба, — и дело с концом!
— Ага… Ну, ты извиняй. А то я ведь что? Я ведь, когда слух пошел, что ты Марью увел, я и решил ее того… спасти. — Мужик вздохнул. — А вишь, как вышло. Оговор, видать. Так что, извиняй, Змей Тугарин, ежели что не так…
— Тугарин? — хором переспросили головы и переглянулись.
— Ты че, мужик, совсем с ума сошел? — осведомилась Правая. — Ты посмотри на меня: какой же я тебе Тугарин?
Богатырь совсем опешил и теперь стоял и переводил взгляд с одной головы на другую.
— А… разве… нет?
— Конечно, нет! Тугарин, он только по названию Змей. А я — Горыныч! Горыныч я! Ты, когда через реку проезжал, указатель видел или не видел? Ясно же написано — «р. Горынь». Какой я после этого Тугарин?
— Да не умею я читать… — машинально выдавил Иван и озадаченно поскреб в затылке. — Бли-ин! — протянул он, и в глазах его как будто проступило понимание. — Так что же, получается, я обознался? Так, что ли?!
— Что ли, так, — подтвердил Змей Горыныч. Детина вдруг схватился за голову и забегал по поляне, потрясая кулаками и время от времени пиная несчастный шишак.
— Дык что же это я! Как же это я! Ой, беда, беда, огорченье! Надыть, свернул не там… Ай-яй-яй… — Он остановился и топнул ногой. — Ведь уйдет, уйдет поганый!
Три головы с неподдельным интересом наблюдали за этой беготней.
— Эк его разбарабанило, болезного… — вслух посочувствовала Правая. — Эй, Вань! — окликнула она. — Чего разбегался? Остынь, охолони малость. Присядь, вон, бражки выпей, а там решим, что делать… Одна голова — хорошо, а три — лучше.
— Не до браги мне, Горыныч: Родина в опасности! — Витязь-недотепа подобрал с земли шишак, стряхнул с него пыль, надел на голову и горделиво напыжился. — Так что, извини, Змей, недосуг! Спешу!
— Ну, тогда бывай здоров.
Иван развернулся и быстро зашагал по тропке, ведущей в лес. Змей некоторое время постоял, потом подумал, что не худо бы снова проверить яйцо, и направился в глубь пещеры.
В это утро на скорлупе появилась первая трещина.
Король был стар.
Под стать ему был замок — эта высоченная громада, окруженная водой со всех сторон. Местами ров осыпался, крутые берега повсюду поросли травой и мхом, да и вообще он был уже не так глубок, как раньше. Весной на отмелях и под мостом, который мало кто теперь именовал подъемным, давали представления молодые лягушачьи менестрели. Стены тоже знавали лучшие времена; неровные, замшелые, сейчас они пестрели светлыми заплатами — следами штурмов и осад минувших лет. А может быть, веков. Немного оставалось тех людей, что помнили, кто им владел до Короля. Нагромождение башенок, зубцов и навесных бойниц стояло здесь давно, и только старые знамена и штандарты в тронном зале хранили память о разбитых армиях, плененных полководцах и о покоренных городах, но кто их спрашивал о том? Никто.
Лишь моль и пауки.
А между тем когда-то (и при том — не так давно) историю любого знамени, щита, любого гобелена замковые обитатели и челядь знали наизусть, успели выучить со слов Короля, чьи бесконечные рассказы о его былых сражениях и подвигах успели всем набить оскомину.
Так мрачно размышлял Робер, ступая по холодным плитам пола тронного зала, неизменно приходя к одним и тем же нелестным для его отца выводам. Король был стар. И замок был стар.
Когда-то это было даже интересно. Робер невольно снова вспоминал себя мальчишкой. Он с братьями сидел на возвышении вторым — по левую руку от отца. Зал тогда был ярко освещен, за длинными столами пировали рыцари, играла музыка, вокруг смеялись, пели. Гончие собаки под столами грызлись за объедки. Много было пива и вина, красивых женщин, кто-то спорил, кто-то мирно спал, уткнувшись в блюдо головой, и вот тогда отец, подвыпив, принимался за свои рассказы, иногда подначиваемый друзьями и соратниками, а иногда — сам по себе. О, тогда отец казался ему чуть ли не героем, равным богу, — так он увлекался, вспоминая каждый раз все новые подробности, так загорались его глаза, так руки жаждали меча! Случалось, посылали в казематы, в зал вводили пленников. Бывало, что отец их миловал и даже отпускал, как, например, произошло на свадьбе сына. И даже после были битвы, и Робер был их свидетелем, а после — и участником. В тех битвах был иной Король, отважный воин, полководец, лицо которого преображалось при запахе крови, а в черных волосах гнездился ветер, приносящий бурю. Но то случалось все реже и реже: уже тогда мало кто решился бросить вызов Королю. Взрослели братья, выходили замуж сестры. Умерла их мать — жена отца и королева. Годы брали свое. Менее всего отца теперь влекли пиры и развлечения. Он затворился в замке и почти не выходил, лишь редко выезжал охотиться. Собаки разжирели от безделья и дремали целый день, большинство их псарь продал недавно герцогу де Ланнуа. Король об этом ничего не знал, его давно уже никто не принимал всерьез; всем заправляла его старшая дочь Бригитта, державшая под каблуком и слуг, и мужа — молодого тщедушного аристократишку откуда-то с югов. Робер сестру не любил, но вынужден был с ней считаться, по крайней мере до тех пор, пока не огласят наследство после смерти Короля. Робер был старшим сыном. Бригитта — старшей дочерью. Здесь Робер невольно улыбнулся. Пусть так, но скоро все изменится. Аристократишка-южанин попусту вертелся перед троном.