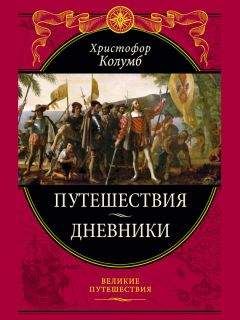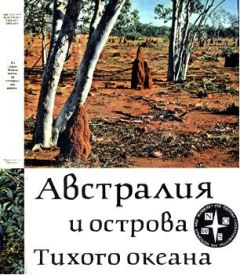Настало долгое, леденящее душу молчание. Потом Джордж спросил негромко:
— Это все?
— Да. Как-то мне стало тоскливо, и тогда пришла мама и меня разбудила.
Джордж взъерошил растрепанные волосы сына, другой рукой поплотнее запахнул халат. Вдруг пробрало холодом, и он почувствовал себя маленьким и слабым. Но, когда он опять заговорил с Джефом, голос его ничего такого не выдал.
— Просто тебе приснился глупый сон, надо поменьше есть за ужином. Выкинь все это из головы и спи, будь умницей.
— Хорошо, папа, — отозвался Джеф. Минуту помолчал и прибавил задумчиво: — Надо бы еще разок там побывать.
* * *
— Голубое солнце? — всего лишь несколько часов спустя переспросил Кареллен. — Тогда совсем несложно определить, где это.
— Да, — сказал Рашаверак. — Несомненно, Альфа-нидон-два. И Серные горы это подтверждают. Любопытно отметить, как исказились масштабы времени. Планета вращается довольно медленно, так что он, видимо, за считанные минуты наблюдал многие часы.
— Больше ты ничего не мог узнать?
— Нет, если не расспрашивать ребенка в открытую.
— Этого мы не смеем. Все должно идти своим чередом, нам нельзя вмешиваться. Вот когда к нам обратятся родители… тогда, пожалуй, можно будет его расспросить.
— Может быть, они к нам и не придут. Или придут слишком поздно.
— Боюсь, тут ничего не поделаешь. Надо всегда помнить, при этих событиях наше любопытство не имеет значения. Оно значит не больше, чем счастье человечества.
Кареллен протянул руку, готовясь отключить связь.
— Разумеется, продолжай наблюдать и обо всем докладывай мне. Но никакого вмешательства.
* * *
Между тем когда Джеф не спал, он как будто оставался прежним мальчишкой. И на том спасибо, думал Джордж. Но в душе его нарастал страх.
Для Джефа это была просто игра, он пока ничуть не боялся. Сон-это сон, только и всего, какой бы он ни был странный. Джефу больше не становилось тоскливо в мирах, которые открывались ему во сне. Только в ту первую ночь он мысленно позвал Джин через неведомые, разделившие их бездны. А теперь один бесстрашно странствовал во Вселенной, которая перед ним раскрывалась.
По утрам родители расспрашивали его, и он рассказывал, сколько мог припомнить. И порой сбивался, не хватало слов описать увиденное — такое, чего не только сам не встречал наяву, но что бессильно было себе представить человеческое воображение. Отец и мать подсказывали ему новые слова, показывали картинки и краски, пытаясь подхлестнуть его память, и из его ответов составляли, как могли, связные образы. Зачастую получалось нечто совершенно непонятное, хотя, видимо, самому Джефу миры его снов представлялись ярко и отчетливо. Просто он не мог передать эти образы родителям. Впрочем, иные оказывались довольно ясными…
* * *
Пустое пространство — никакой планеты, ни гор, ни равнин вокруг, никакой почвы под ногами. Только звезды в бархатной тьме, и среди них громадное красное солнце, оно пульсирует, бьется, точно сердце. Вот оно огромное, но бледное, а потом понемногу съеживается и в то же время разгорается ярче, словно внутреннему его пламени подбавилось горючего. И окраска его меняется, вот оно уже не красное, а оранжевое, потом почти желтое, медлит на грани желтизны — и все поворачивает вспять, звезда расширяется, остывает, сызнова становится косматым кроваво-красным облаком…
( — Классический образчик пульсирующей переменной, — обрадовался Рашаверак. — И к тому же увиденный при неимоверном ускорении времени. Не могу определить точно, но, судя по описанию, ближайшая такая звезда — Рамсандрон-девять. А может быть, это Фаранидон-двенадцать.
— Та ли, эта ли звезда, но он уходит все дальше, — заметил Кареллен.
— Много дальше, -сказал Рашаверак…)
* * *
Тут было совсем как на Земле. Ярко-белое солнце повисло на синем небе в крапинках несущихся по ветру облаков. У подножья некрутой горы пенился исхлестанный бешеным ветром океан. И при этом ничто не шелохнется: все застыло — недвижимо, будто высветилось на миг при вспышке молнии. А далеко-далеко на горизонте виднелось такое, чего на Земле не увидишь, — вереница гуманных, чуть сужающихся кверху колонн, они вырастали из воды и тонули вершинами в облаках. Они шли на равном расстоянии друг от друга по краю всей планеты, такие громадные, что никто не мог бы их построить, — и все же такие одинаковые, что не могли появиться сами собой.
(— Сиденеус-четыре и Рассветные столпы, — голос Рашаверака дрогнул.
— Он достиг центра Вселенной.
— А ведь его путешествие только начинается, — сказал Кареллен.)
* * *
Планета была совершенно плоская. Непомерное тяготение давным-давно придавило и сровняло с поверхностью былые горы ее огненной юности — горы, чьи самые могучие вершины и тогда не превышали нескольких метров. И однако здесь была жизнь: все покрывали мириады словно бы с помощью линейки и циркуля вычерченных узоров, они двигались, переползали с места на место, меняли окраску. Это был мир двух измерений, и населяли его существа толщиной в малую долю сантиметра.
А в небе этого мира пылало солнце, какое не привиделось бы и курильщику опиума в самых безумных грезах. Раскаленное уже не добела, а еще того больше, палящий, почти ультрафиолетовый призрак этот обдавал свои планеты смертоносным излучением, которое вмиг уничтожило бы все живое на Земле. На миллионы километров вокруг простирались завесы газа и пыли и, прорезаемые вспышками ультрафиолета, лучились неисчислимыми переливами красок. Рядом с этой звездой бледное светило Земли показалось бы слабеньким, точно светлячок в полдень.
(— Гексанеракс-два, такого больше нет нигде в изученной Вселенной,
— сказал Рашаверак. — Очень немногие наши корабли там бывали, и никто не решился на высадку, ведь никому и в мысль не приходило, что на таких планетах возможна жизнь.
— По-видимому, вы, ученые, оказались не такими дотошными исследователями, какими себя считали, — заметил Кареллен. — Если эти… эти узоры… разумны, любопытно было бы установить с ними контакт. Хотел бы я знать, известно ли им что-нибудь о третьем измерении?)
* * *
Этот мир не ведал, что значат день и ночь, годы и времена года. Его небо делили между собою шесть разноцветных солнц, и темноты здесь не бывало, только менялось освещение Спорили друг с другом, сталкивались или тянули каждое к себе различные поля тяготения, и планета странствовала по изгибам и петлям невообразимо сложной орбиты, никогда не возвращаясь на однажды пройденный путь. Каждый миг — единственный и неповторимый: рисунок, который образуют сейчас в небе шесть солнц, уже не возобновится до конца времен.