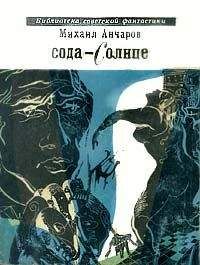И потом он заснул один в пустом театре, прикорнув на галерее, потому что домой ему было идти ну совершенно незачем.
Что дождь и ветер? Это чепуха!
Мы дождь и ветер видим каждый день, —
пели двери «Глобуса», болтающиеся от ветра.
И когда туманным февральским утром Шекспир подошел к лондонскому рынку, он услыхал далекий стук барабана, который раздавался в тишине.
Вдали на рыночной площади стояла небольшая группа хорошо одетых дворян.
Один из них бил в барабан, другой размахивал руками и что-то кричал, потрясая шпагой. Но они были далеко, и слов не было слышно. Остальные держались за шпаги и переминались на месте.
Потом они быстро пошли через пустеющий рынок мимо лавок ремесленников и торговцев, на которых быстро закрывали ставни.
Когда группа приблизилась настолько, что можно было разглядеть лица, Шекспир услыхал, как идущий впереди рыжебородый Эссекс кричал, потрясая шпагой:
— Идемте ко двору и опрокинем власть тирании…
Но никто не присоединился к ним.
И так они шли по безмолвной улице, и граф Ретланд, идущий впереди всех без шляпы, с обнаженной шпагой в руке, начал задыхаться… Он расстегнул ворот, и стала видна белоснежная рубаха.
И улица пустела перед ними, и у идущих были отчаянные глаза. Ретланд встретился взглядом с Шекспиром и прошел мимо… Но тут уж ничего не поделаешь.
И вот уже промчалась конница по улицам Лондона вслед жалкой кучке дворян, пошедших против королевы.
…Быстро, в полторы недели, провели следствие над Эссексом.
— Признаете ли вы, что имели цель убить королеву? — гремит голос в огромном зале.
— Нет! — гулко откликается другой голос.
— Признаете ли вы себя виновным в целом?
— Нет! — и эхо отскакивает от потолков.
— Собираетесь ли вы ходатайствовать о помиловании?
— Нет!
— Увести.
И люди уводят графа Эссекса…Толпы народа стоят вокруг Тауэра, и площадь эта как чаша. Чаша для крови. Колокольный звон.
В толпе стоит Шекспир и тоже смотрит на каменные, в сосульках, стены. Но под его взором угрюмые стены теряют плотность, и он видит, как по крепостному двору ландскнехты провели человека к плахе.
Эссекс встал на помост и оглянулся, и его рубаха белеет на черно-лиловых камнях внутреннего двора. Эссекс посмотрел в сторону Шекспира.
— Получилось глупо, вы были правы, Вилли, — сказал Эссекс. — Но тут уж ничего не поделаешь.
— Прощайте, Эссекс, — сказал Шекспир.
Эссекс встал на колени, и палач поднял двуручный меч устарелого образца.
Наступила щемящая тишина.
Шекспир отвернулся.
Колокол перестал звенеть. Раздался стук…
Топот коней.
По улицам Лондона со своей свитой едет ко двору королева Англии. Колокола опять зазвонили.
Но народ молчит и не приветствует свою королеву.
Свита сгрудилась возле кареты, и процессия убыстряет шаг. И народ молчит и не приветствует свою королеву.
И так на всех улицах. Но тут уж ничего не поделаешь.
…В дверь королевской опочивальни входит канцлер ее величества. Он входит и останавливается перед королевой, которая сидит совсем бледная.
— Ваше величество… — говорит он. Она поднимает глаза и смотрит на него.
— Что тебе?… — говорит она наконец.
— Вот материалы следствия.
Королева не притрагивается к бумагам, только смотрит на них. Ах, совсем уже не молода королева. Она понимает, что потеряла свой последний шанс, и теперь она сидит белая-белая.
— Вы видели, как я в молчании проехала по Лондону?
— Да, ваше величество. Опять тишина.
— Как Эссекс вел себя на следствии?
— Он оправдывал соучастников.
— Я знала, что он так поступит… — говорит королева. — Не передавал ли он мне чего-нибудь перед смертью?
— Нет, ваше величество.
— Слава богу… — говорит королева.
И рыдает.
Канцлер выходит из дверей, кланяясь.
— Оправдывал сообщников, — рыдает она, и камеристка наливает ей воды, и зубы королевы стучат о металл кубка. — Кому нужно его проклятое рыцарство? Кому нужно все это?! Я любила его, но его самолюбие страдало все больше… Он играл с огнем… Я сдерживала тебя, но ты не слушался… теперь ты умер… Я подарила тебе перстень, за который ты мог у меня потребовать жизнь… но ты не воспользовался… не передал мне его… Слава богу… — она перестает рыдать, закрывает глаза и молчит.
Так все спокойно было в этом переулке, а сейчас пошло тайное возбуждение и лихорадка. Будто что-то сдвинулось с места, какие-то силы пришли в движение и, хотя никто не признавался, чувствовалось, что все друг другу мешают, столпились на одном пятачке и ждут, кто первый не выдержит и освободит место. Но никто не уходил. Тесно стало в придорожном кафе.
— Ладно, выхода нет, — сказал знаменитый ученый. — Придется вам кое-что рассказать. Слушайте.
Приезжий и знаменитый ученый сидели грустные и никак не могли договориться. Оба не говорили главного, и, значит, суть разговора лежала где-то в стороне, и все дело зашло в тупик, н оставался один выход, самый простой и детский, — полная откровенность. Но этого ученый и боялся больше всего.
— Да, боюсь, — сказал ученый. — Наш эксперимент держится на том, что некий незнакомый человек сам, без подсказки принесет решение, которое мы ищем. Если я вам расскажу суть эксперимента, можно считать, что он не состоялся… Ладно… выхода нет, придется вам кое-что рассказать… Слушайте…
Приезжий ответил:
— Зачем же мне слушать то, что я и сам знаю?… Ученый подскочил, сунул руки в карманы, потом посмотрел в безмятежное лицо приезжего и снова сел.
— Почему вы меня все время дразните? — спросил он.
— Из-за вашего апломба, — сказал приезжий. — Из-за того, что вы ждали появления кого-то более солидного, чем я.
— Не сердитесь, — раздраженно сказал ученый. — Времена изменились. Мир теперь преобразовывают не странствующие энтузиасты, а крупные научные коллективы.
— Вы считаете — искусство — устарелая профессия?
— Не профессия… Устарелый способ мышления.
— Искусство — это не мышление, — сказал приезжий. — Этим оно отличается от науки… Наука может научить только тому, что знает сама, а искусство даже тому, чего само не знает.
— Как это может быть? Подумайте…
— Наука имеет начало, а искусство не имеет, — сказал приезжий. — Если человек выжил до того, как появились доктора, значит природа придумала способы его выживания до того, как появилась медицина. И так во всем. Музыка была до того, как придумали ноты. Литература была до письменности, живопись — до открытия анатомии и перспективы. Искусство существует столько же, сколько существует человек. Оно отличается от дыхания только тем, что потребность в дыхании у всех одинаковая, а в искусстве — разная. Поэтому в науке вдохновение редкий случай, а для искусства это обязательный минимум. Хотя и тоже довольно редкий случай…