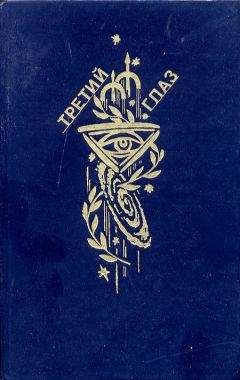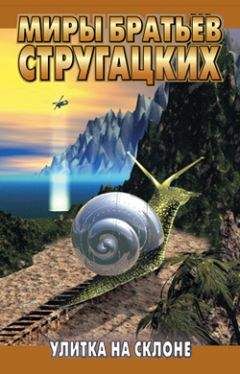Если здесь намек на меня, то я против. Но мое мнение никого не интересовало — в руку легла чаша с варевом. Итак, за маму… Я негордо посмотрел на старейшину. “Хороший, хороший”, — сказал ветхий демон. Дескать, если я немного постараюсь, то стану хорошим трупом. А после самоупразднения продолжение обеда, можно сказать, за мой счет. От такой жизни они вполне могут включить в свой рацион человечинку. И меня ждет успокоение только в животах собравшихся. Я огляделся, сочувствующих не было. Царило грубое веселье, другое и невозможно без персон-карты. “Всех не скушаете”, — кажется, закричал я, но отвар уже пронзил меня от макушки до копчика. Потом внутри стихло. Я незаинтересованно наблюдал, как мои собутыльники отбросили приличия, ерзали на земле, повизгивали. Но старец не успокоился, он задал ритм на своей горелке, и их движения приобрели некоторую согласованность. Дикари засновали вокруг костра, распустив губы и закатив глаза. Хорошему танцору никакая часть тела не мешает. Эти слова справедливо относились к нашей миленькой компании.
Рассматривал я эти ужимки спокойно, больше размышляя о том, в какой торжественный момент мне смыться и чем врезать старейшине. Немного погодя заметил, что плясуны тень отбрасывают уже не на землю, а прямо на воздух, как на экран. А от тени падает другая, раздавшаяся вширь, а там и третья, вообще круглая. Люди стали смахивать на орехи. Эти продукты, вдобавок, то ли дышали, то ли колыхались на ветру. А потом мерцающий воздух зарос по всей толще пушистой плесенью. Она облепила орехи, не оставила ни одного голого места.
— Что там еще? — я с трудом протолкнул слова сквозь затвердевшую на лице радость.
— Если мы не съедим ее, то сами станем едой, — откликнулся кто-то, кажется, старейшина.
— Звучит красиво, хотя я давно хотел сказать, что меню у вас небогатое — как в сельской столовке.
Тут содержательная беседа прервалась, потому что эта гадость стала приклеиваться ко мне. Я вначале подумал, мерещится, потом кругом заволокло сивой мглой и стало не до дум. Я там дрался с клейким врагом, но, наверное, выбрал неверную тактику, пух меня густо-густо облепил. Даже не облепил, а врос в организм, чего-то в нем сделал и вырос с другой стороны. Все ощущения неприятно переменились.
Кишечник начинается не во мне и заканчивается черт знает где, вроде водопровода. Мой мозг проходит по голове и следует дальше, как трамвай. Позвоночник вообще — длинный стержень, на который я просто навинчен. Получился из меня сиамский близнец всех сиамских близнецов, не организм, а орган. Воспоминания о работе, учебе, развлечениях ничего не давали, скорее убавляли. Дескать, ничего не попишешь, везде висеть приходится. Намучился я порядком, даже сдаться захотелось. Не только улыбка спрячется в рот, навсегда расстроишься, если узнаешь, что тело, неотъемлемое имущество даже последнего бомжа, расписано до последнего члена по разным инстанциям. Чего же остается тебе? Только долг перед обществом. Я еще поискал внутри себя и нашел огонек. А может, это он запрыгал и нашел меня. Я назвал что-то огоньком из бедности живописных сравнений. Суперсветляк, золотое яйцо, раскаленный электрод — тоже подходило. Самое главное, к нему потянулись разряды из каких-то далеких краев. Забил большой барабан, и они прорезали затхлую сивую мглу. Липкая дрянь начала съеживаться. А потом и вовсе была разметана. Еще бы, атаковала раскаленная сияющая волна. Не вынеся жара, отпрыгивал пух, взрывалась плоть, половина мозгов, словно водяной пузырь, выскочила из раскрывшейся, как орех, башки, кишки лопнули, разодрав живот в лохмотья, легкие рванулись и грудная клетка развернулась в цыплячьи крылья. Зрелищно и больно, но боль быстро сожрал огонь. Полуосвежеванная тушка завертелась в пустоте.
Очнулся от свиста в ушах на кладбище промышленных уродов. Консервная банка свидетельствовала грехопадение. В нутре ощущение помойки, будто выпотрошили, набили требухой и зашили. Покатался с бока на бок минут пять, пока не обрел желания чего-то делать, встал и пришел домой. А там — плюнуть противно, кругом игрушки для знатного маразматика. В тридцать шесть лет я оказался малышом, соплежуем. Стал их собирать, упаковывать. Но и в свернутом виде дребедень эта не меньше места заняла. Зато уютное гнездышко превратилось в склад. А “глаз” упал, выскочил у меня из потных рук и стал кучкой. Не будет тут больше моргать. Барахло сплавить — тоже проблема. Комиссионок давно нет, любую безделицу, полученную по персон-карте, может изъять или списать только компетентная комиссия. По техсостоянию или решению суда, если оказался бандитом. Ничего, покамест задрапирую, а потом, может, сымитирую грабеж, буду правдиво рыдать, бить себя в грудь перед ментами.
Значит так, остался я у разбитого корыта. Структура-то у нас все равно самая справедливая. Каждую минуту, даже когда ешь или дрыхнешь, очки все равно набираются или убывают. А мне просто справедливость надоела. Я тот, ныне редкий элемент, который где-то, когда-то, почему-то, зачем-то честно жить не хочет. А хочет он пробраться на разнузданный Запад и свистнуть изобретения, которые господа и дамы украли в свою очередь у наших кулибиных, споив их джином и сакэ. Нет, нововведения даром не нужны, от них распыление средств и истощение сил. Или желает элемент спасти жизнь хозяйственного стратега, засмотревшегося далеко вперед и упавшего в омут на рыбалке. Впрочем, стратег не ловит пиявок. Сидит с удочкой у бассейна с холуями, переодетыми в акул, в тех местах, куда ни олень, ни общественный транспорт не пройдут. И вообще, наша структура не зависит от таких случайностей. Вот если трудовой экстаз и радостное прилежание — другое дело.
До обеда экстаза не случилось. Более того, прежние интересы вызывали зевоту. Две пятилетки убил, чтобы отточить свое мастерство, свой нюх, чтобы жучить неприоритетных засранцев и держать в порядке надзорные и отчетные сведения, и вдруг такая скука. Взгляд стремился из закутка куда-то на волю. В самом деле, у нас не зал, а кишечник. Все — вместе, а чувствуешь себя кишечным паразитом. В щель был виден эстетически законченный кусок Явольского. “Новый” человек что-то старательно и счастливо вдувал в терминал. Экран висел на носу. Вокруг него была полная ясность. Я пожевал бумагу и ловким плевком из переоборудованной ручки прилепил ему метку на передовую голову. Он заерзал, но из-за своей просветленности не врубился. Я еще покрутился и в другую щель увидел тоненькую лодыжку Брусницыной, которая болталась туда-сюда, будто этот помощник инспектора мурлыкал что-то себе под нос и рисовал в тетрадку принца и принцессу. Генитальный массажер так бы не смог. Когда-то она сошлась с Немоляевым на почве стервозности. Являлась на работу, как чертовка, пуговицы блестят, губы поджаты, взгляд птицы, питающейся падалью. Потом эти танцы в юбочке из веревочек маленько перенастроили ее. Может, подобраться да рассмотреть, чем она занимается. Нет, пожалуй, решит, что я из тех, кто подсматривает в банях.