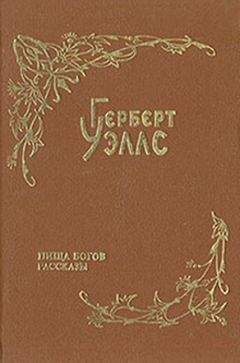Первый куст гигантской крапивы, наименее вредный с точки зрения Катергама, был выдернут его решительной рукой.
Как только власть попала в руки Катергама, он тотчас же приказал арестовать стариков Коссара и Редвуда как главных сеятелей гигантской крапивы.
Редвуда арестовать было нетрудно. Он недавно перенес серьезную операцию в боку и только что начал поправляться. Он встал с постели и сидел в мягком кресле перед камином, обложенный газетами, из которых впервые узнал о борьбе Катергама с гигантизмом и о грозной туче, нависшей над принцессой и его сыном. Это было как раз в то утро, когда умер молодой Каддльс и когда молодого Редвуда ранили на пути к принцессе. В последних сообщениях об этом говорилось довольно смутно.
Старик перечитывал их, холодея от страха, и с нетерпением ожидал дальнейших сведений, когда дверь его комнаты вдруг отворилась.
— Вечерняя газета? — спросил старик, вставая.
Но вместо вечерней газеты слуга ввел полицейского офицера, за спиной которого виднелись силуэты двух или трех полисменов.
— Что вам угодно? — спросил вежливо Редвуд.
После этого вопроса он два дня не имел никаких сведений о сыне.
Полиция запаслась каретой, чтобы отвезти Редвуда куда-то, но когда оказалось, что он болен, то решено было оставить его на месте и подвергнуть домашнему аресту впредь до выздоровления. Дом был окружен стражей и превратился во временную тюрьму. Это был тот самый дом, в котором родился молодой Редвуд, ставший первым из живых существ, вскормленных Гераклеофорбией. Мать его умерла, и старик Редвуд жил один в этом доме уже восьмой год.
Он превратился теперь в худенького седого человечка, с маленькой остроконечной бородкой, но все еще живыми карими глазами. Он был по-прежнему строен телом и мягок в обращении, сохранил свой сдержанный тон, но на лице его отражалось теперь нечто невыразимое: та полная твердости и достоинства вдумчивость, которой отличаются люди, всю жизнь проведшие в размышлениях над высокими задачами. Контраст наружности Редвуда с теми великими преступлениями, в которых его обвиняли, поразил даже полицейского офицера, который распоряжался арестом.
— Ишь какой! — заметил он одному из своих подчиненных. — Чуть весь свет кверх дном не перевернул, а по лицу — кроткая овечка! Уж на что, кажется, почтенный человек наш судья Хенгброу, а лицо у него — как у собаки… Да, все дело в манерах! Один ласков и сдержан, а другой все хмурится да бранится.
Но репутация ласковости и сдержанности недолго оставалась за Редвудом. Когда он узнал о своем аресте и должен был присутствовать при обыске квартиры, то очень разволновался и даже повысил голос. Главным образом его беспокоила судьба молодого Редвуда, о котором полисмены не хотели сообщать никаких сведений.
— Да ведь я вам говорю, что это мой сын, — тщетно повторял старик, — мой единственный сын! Я о нем только и хлопочу, а вовсе не о Пище.
— Очень жаль, что ничего не могу вам сообщить о нем, сэр, — отвечал полисмен, — но мы получили очень строгие предписания.
— От кого вы их получили? — настаивал старик.
— Запрещено говорить, сэр, — сказал полисмен, затворяя за собой дверь.
— Ходит взад и вперед по комнате, — сообщил один из констеблей старшему полицейскому офицеру, когда тот через некоторое время пришел справиться о пленнике. — Это очень хорошо. Это его успокоит.
— Надеюсь, — отвечал старший. — Дело в том, что я ведь и не знал, что тот гигант, который ухаживает за принцессой, приходится ему сыном.
Скоро выяснилось, что Редвуд не успел еще успокоиться и понять, что между ним и внешним миром воздвигнута каменная стена. Слышно было, как он подходил к двери и пробовал отворить ее, а затем стал стучаться, за что часовой, стоявший на лестнице, сделал ему замечание. Затем он подходил к окну, и проходящие по улице, собираясь кучками, стали на него заглядываться. Полиция поспешила рассеять эти кучки. Потом Редвуд стал не переставая звонить, так что старший полисмен вынужден был заявить ему, что если он будет так вести себя, то провода будут перерезаны.
— Звоните, сэр, когда вам что-нибудь понадобится, — прибавил он, — а если будете звонить в виде протеста, так вам же хуже: мы перережем провода, и тогда никто уж на ваш зов не придет.
— Но неужели вы не можете сообщить мне…
Полисмен закрыл дверь.
После этого Редвуд стал проводить большую часть своего времени у окна, глядя на улицу. Но и улица немного могла сообщить ему относительно жизни внешнего мира. И так очень тихая, в этот день она была тише обыкновенного. Изредка проедет кэб или пройдет разносчик, появятся один или два прохожих, ничем не замечательных, пробежит, играя, группа детей, пройдет нянька с ребенком или кухарка за покупками — и больше ничего. Появлялись люди и на правой, и на левой стороне улицы, и сверху ее, и снизу, но у каждого из них, очевидно, были только личные интересы, интерес же общественный на них ничем не отражался. Заметив, что дом Редвуда оцеплен полицией, иные из них переходили на другую сторону, над которой из соседнего сада нависали листья гигантского лопуха, а иные подходили к полисменам и спрашивали, в чем дело.
Стоящий напротив дом номер 37 казался нежилым. Один раз в окне третьего этажа, вероятно, в спальне, показалась головка молодой горничной. Редвуд стал делать ей знаки. Сначала она заинтересовалась этим и начала со своей стороны сигнализировать что-то непонятное, но потом, заметив полицию, отвернулась и скрылась. Потом из подъезда дома номер 37 вышел старичок и, не глядя по сторонам, пошел направо.
Так прошло утро.
После полудня на соседней большой улице послышались крики газетчиков, но никто из них не завернул в тот переулок, где стоял дом Редвуда, откуда последний и заподозрил, что полиция к нему не пропускает. Он пробовал открыть окно, но был остановлен полисменом, стоявшим снаружи.
На приходской колокольне пробило час.
Редвуду принесли завтрак.
Он перекусил, выпил довольно много виски и опять поспешил к окну. Время тянулось страшно медленно, и Редвуд проспал час или два.
Проснулся он от каких-то отдаленных ударов или толчков. Было заметно, что дрожали стекла, как при землетрясении, но продолжалось это всего с минуту, и затихло, потом вновь возобновилось и, наконец, — прекратилось совершенно. Вообще явление было так слабо выражено, что Редвуд не мог понять, действительно ли он что-нибудь заметил, а потому, не останавливаясь на нем далее, перешел к размышлениям о собственной судьбе.