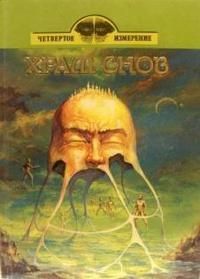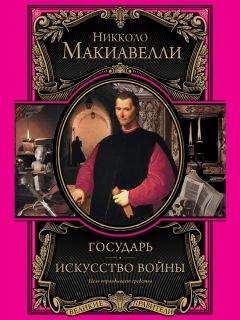Девушка или женщина – я не знаю, – по своему типу не напоминала ни одной из знакомых мне восточных народностей; она была красива какою-то надломленною красотою, в которой усматривалась трагическая обреченность.
И опять та же печать невыносимого страдания на лице, какую я уже видел в этот день!
– По этой дороге идут только печали и… мы! – прошептал я испуганно и поспешил уткнуться в жесткую землю, чтобы уснуть.
2
По мере дальнейшего продвижения все безрадостней становилась местность; исчезли холмики, овражки, редкие кустарники, отсутствовали и животные, которые до сих пор иногда оживляли пейзаж. Словно между двумя жерновами мы шли по безотрадной земле, придавленные сверху холодным велением неба. Великий Художник, сотворивший прелестнейшие уголки земного рая, – Тот Самый, Кто даже пустынные полярные моря покрыл плавающими сооружениями из голубоватого льда причудливых форм и стилей, – здесь бессильно охваченный усталостью и внезапной тоскою, молча прошел эту равнину, даже не подумав коснуться ее могущественным резцом…
И все-таки на ней оказалось кое-что. Оно вынырнуло в знойном трепетании воздуха, окрашенное далью в призрачные цвета марева:
длинный, низкий холм, пологий с обоих концов и почти горизонтальный сверху. Гигантская выпуклость равнины с почти геометрически-правильными линиями, синяя от толщи разделяющего нас воздуха, она застыла, как грудь великана, внезапно приподнятая воздухом.
По мере приближения к холму мною овладело мучительное чувство, что на этом пьедестале чего-то не хватает… Я силился придумать, чего именно не доставало, пока ясно не ощутил, что тут должен находиться храм…
Да, да, языческий храм какому-то страшно одинокому духу земли, ищущему уединения, где мог бы он, никем не тревожимый, возлежать облаком и из века в век жадно прислушиваться к шепоту Космоса, полного далекого гуда рождающихся и погибающих миров…
Я почти видел этот храм: овальное основание, колоннада со всех сторон:
плоская крыша без всяких щпицов и башенок, – только зубчатый карниз; весь он сосуд, отверзший небу, ухо земли!
Лишь поздно вечером дотащились мы до холма, и тут, надо сказать, он меня изрядно разочаровал: изрытый морщинами, с несколькими пятнами коекак возделанной земли и жалкими мазанками, меж которых виднелось что-то, похожее на кумирню, ветхую, как сама смерть, он поражал дикой затхлостью. Но там и сям валялись обломки циклопической постройки – стало быть, тут раньше был храм!
У полуразрушенных ворот кумирни спал вратарь, пропустивший нас с самым безразличным видом.
Не встретив во дворе ни одной души, мы сами устроились на ночлег в одной из пустовавших глиняных мазанок.
– Теперь я знаю, мы пришли! – сказал Вострецов, разглядывая перед сном тот же исписанный листок, по которому справлялся раньше.
Я хотел спросить, куда мы пришли, но адская усталость буквально валила меня с ног, и я решил задать этот вопрос завтра.
Я проспал не больше часа, а потом проснулся, мучимый то ли клопами, то ли переутомлением, превратившимся в тягучую бессонницу.
Первое, что я заметил, было отсутствие Кострецова. Помаявшись еще с полчаса, я встал, решив осмотреть кумирню при лунном свете.
Проскользнув несколько закоулков между мазанками и небольшую площадку перед самой кумирней, я смело шагнул в настежь открытую дверь.
Лившийся в решетчатые без стекол окна свет дробился на потрескавшихся изображениях позолоченных богов и переливался в струйках золотистой цепи. Мне бросилось в глаза, что статуи богов имели скорее египетский, чем монгольский разрез глаз и были значительно монументальнее, нежели мне приходилось встречать в других кумирнях. Традиционный треножник, где сжигаются бумажные курительные свечи, еще распространял слабый аромат. Но последний не в силах был преодолеть затхлости этой ветхой постройки – она определенно отдавала брошенным амбаром.
Неожиданно я вздрогнул: с косяка узенькой дверцы на меня глядело желтое изможденное лицо живого человека в одеянии монаха. Вглядевшись, я убедился, что он дремал, сидя в резном кресле перед столиком, на который посетители обыкновенно кладут подношения.
Лежащий перед ним на подносе русский золотой навел меня на мысль, что здесь, быть может, проходил Кострецов.
На цыпочках я шмыгнул мимо дремавшего монаха и очутился в другом помещении, слабо освещенном древним светильником. По углам дымились курильницы, и дым от них свивался в причудливые клубы под потолком.
Под его колышущимся покровом с дюжину человек спали прямо на полу.
Между ними я сейчас же узнал женщину, чья тень покрыла меня ночью, когда я находился на дороге скорби… Но теперь всякий след страдания исчез с ее лица; оно дышало экстазом подлинного счастья; полураскрытый рот буквально ждал поцелуя, и задор, обнявшийся с улыбкой, витал на губах…
В конце ряда невозмутимых мужских лиц, лежала старушка с идиотски-блаженным лицом, а за ней – Кострецов.
Я сел рядом с погруженным в сон спутником и задумался: что значит все это?
Совершенно неожиданно моя задумчивость перешла в легкую, приятную дрему. Я примостился поудобнее и увидел сон.
3
Он начался резким гудком паровоза, таким неожиданным, что я даже испугался…
Суета на вокзале… На перроне полно народа – негде поместиться… Все – русские… Несут без конца баулы, чемоданы, корзинки. Носильщики в помятых картузах и запачканных передниках катят тележки с багажом.
Тележки скрипят, визжат, носильщики переругиваются – никак не проедешь… Гам, смех, веселая толкотня… Ничего не могу разобрать, где я, что такое творится…
– Скажите, пожалуйста, – обращаюсь я к бородатому человеку купеческой складки, в картузе и поддевке, у которого все лицо – сплошное благодушие и радость, – куда же весь этот народ едет?
– Как куда? – удивляется он. – С луны вы свалились?.. Домой – в Россию едем! Большевиков прогнали – всей нашей маяте конец пришел… Можно сказать, народ так обрадовался, так обрадовался… Митровна, – обращается он к жене, – куда же Митюха, пострел, убег? Поезд-то подходит… как бы малец под паровоз не угодил… Митю-ха! – громко гудит его мощный голос на всю платформу.
Я стою, опешивши, а потом спохватываюсь: ведь правда, в самом деле!
Люди сказали… Надо и мне обратно, в Тамбовскую губернию!
А тут, смотрю – однополчанин!.. Ротный командир Коваленко с полуупреком, полуусмешкой машет мне из толпы рукою и говорит немножко с прононсом:
– Что же вы, прапорщик, здесь стоите? От своего эшелона вздумали отстать, а? – А потом, все больше расплываясь в неудержимой улыбке, указывает рукой: – Вот тут, на запасных путях наш эшелон стоит. Все наши в сборе, только вас не хватает!.. Ну, ну не жмите так сильно руку; в ней ведь осколок застрял… конечно, понимаю… чувства, – а сам так и сжимает мою руку, точно клещами…