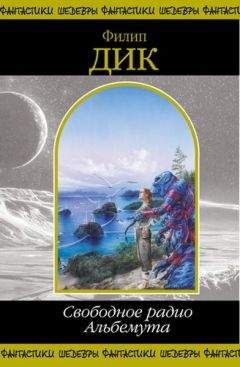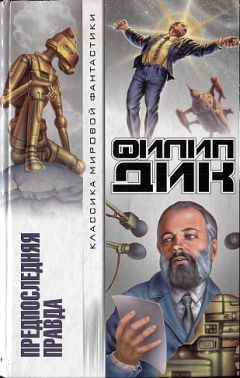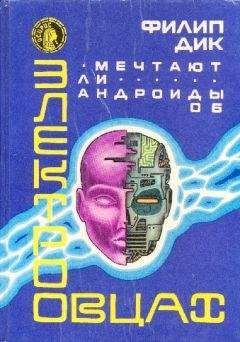Именно к этим последним и принадлежал Джон Изидор, в чьей комнате долдонил телевизор, пока сам он брился в ванной.
Он забрел сюда совершенно случайно вскоре после войны. В эти жуткие времена ни один человек толком не понимал, что он делает, тем более — что ему следует делать. Лишившись родного крова, сорванные с места люди бродили по стране, сбивались в стаи, селились на какое–то время в одном месте, мигрировали в другое. Радиоактивная пыль сыпалась тогда на землю лишь время от времени и очень неравномерно: если одни штаты были насыщены ею под завязку, другие оставались практически чистыми. Перемещалась пыль, перемещались и люди. Полуостров к югу от Сан–Франциско относился первое время к чистым, и там скопилось довольно много поселенцев. Когда появилась пыль, кое–кто из людей умер, остальные ушли. Джон Изидор остался.
— … наяву возрождает патриархальную идиллию южных штатов, какими те были до Гражданской войны! — вопил телевизор. — По прибытии на место вы получите — получите абсолютно бесплатно — гуманоидного робота, с равным успехом способного быть как вашим личным слугой, так и безотказным неутомимым работником, ИЗГОТОВЛЕННЫМ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС, В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ НУЖДАМИ, и полностью оснащенным всем, что вы заказали перед отъездом. Этот верный, никогда не перечащий вам соратник по самому дерзновенному в истории человечества предприятию…
И так далее, и так далее.
Не опоздать бы на работу, думал Изидор, торопливо добриваясь. Дело в том, что часов у него не было, а телевизор не передавал сегодня сигналов точного времени — по случаю, надо думать, Дня Бескрайних Горизонтов, пятой (или уже шестой?) годовщины основания Нью–Америки, главного американского поселения на Марсе. Ну, может, по каким–нибудь каналам эти сигналы и шли, но его неисправный телевизор принимал один–единственный канал — тот, который был национализирован в начале войны, да так национализированным и остался, в результате чего Изидору приходилось слушать исключительно программы, спонсируемые вашингтонским правительством и чуть ли не полностью посвященные программе колонизации.
— Ну а теперь давайте послушаем миссис Мэгги Клугман, — предложил телевизионный ведущий (начисто игнорируя интересы Джона Изидора, который сейчас знать ничего не хотел, кроме времени). — Наш корреспондент в Нью–Нью–Йорке записал для вас очень интересное интервью с миссис Клугман, недавно эмигрировавшей на Марс.
— Миссис Клугман, — произнес после небольшой паузы другой мужской голос, — чем отличается ваша жизнь здесь, в мире безграничных возможностей, от жизни прежней, жизни на отравленной и безнадежно испоганенной Земле?
— Больше всего тем, — сказал хрипловатый усталый голос немолодой, как видно, женщины, — что здесь и я, и остальные члены нашей семьи (нас трое) впервые узнали, что такое чувство собственного достоинства.
— Чувство собственного достоинства? — переспросил интервьюер.
— Да, — подтвердила свежеиспеченная нью–нью–йоркчанка миссис Клугман. — Это трудно объяснить, но когда у тебя есть слуга, на которого можно во всем положиться… Это вселяет уверенность, дает твердую почву под ногами, столь необходимую в эти беспокойные времена.
— А там, на Земле, вас, миссис Клугман, никогда не тревожила возможность попасть однажды в категорию, э–э–э, так называемых «аномалов»?
— О, и я, и мой муж, мы оба до смерти этого боялись. Само собой, теперь, переехав сюда, мы навсегда избавились от этого страха.
И я тоже, криво усмехнулся Джон Изидор. И даже уезжать никуда не потребовалось. Он попал в аномалы год с лишним назад, и не только из–за искалеченных генов. Заваленный тест на минимальные умственные способности безжалостно отбросил его в число так называемых «недоумков». Обрек на высокомерное презрение жителей всех трех планет. Однако Джон выжил. Он водил доставочный фургон фирмы по ремонту фальшивых животных «Ван–Нессовская ветеринарная клиника», и начальник, хмурый и грубоватый мистер Слоут, относился к нему ничуть не хуже, чем ко всем нормальным людям, за что Джон платил ему искренней благодарностью.
— Mors certa, vita incerta[3], — говорил иногда мистер Слоут.
Хотя Изидор слышал эту фразу не раз и не два, смысл ее доходил до него смутно. Но с другой стороны, умей недоумок разбираться в латыни, он уже не был бы недоумком, с чем не мог не согласиться и мистер Слоут. Да и вообще, недоумок недоумку рознь, многие из них были несравненно глупее Изидора, не могли удержаться ни на какой работе и жили по необходимости в приютах, своеобразно именовавшихся «отделениями Американского института аномальных трудовых навыков» (не совсем понятное в данном контексте слово «аномальных» не позволяло забыть, для кого предназначены эти заведения).
—.. и ваш супруг, — говорил интервьюер, — не слишком полагался на защитные свойства дорогой, тяжелой и неудобной просвинцованной мотни?
— Мой супруг, — начала было миссис Клугман, но тут покончивший с бритьем Изидор вышел в гостиную и выключил телевизор.
Тишина. Она обрушилась на Джона со всех сторон, сдавила его с неодолимой парализующей силой. Вязкой гнетущей волной поднималась она снизу, от замызганного серого паласа, душными клубами накатывала из кухни, от мертвой, еще до Джона поломанной бытовой техники. Тишина сочилась из навсегда потухшего торшера, мешаясь с тишиной, беззвучно падавшей откуда–то сверху, с загаженного мухами потолка. Перечислять бессмысленно — тишина стремилась заместить собой все нормальные, осязаемые вещи.
В качестве первого шага на этом пути она обретала чуждые ей вроде бы зрительные формы. Стоя рядом с заглохшим и ослепшим телевизором, Джон Изидор ощутил тишину как видимую и даже в некотором роде живую. Живую! Он десятки, сотни раз видел, слышал ее леденящий приход, она врывалась с грубой бесцеремонностью, словно взбешенная, что ее так долго промурыжили в прихожей. Молчание мира не могло, не хотело сдерживать свою алчность. Ну какие там церемонии, когда победа почти уже одержана?
Вот интересно, а другие, кто остался на Земле, они тоже воспринимают запустение подобным образом или это фокусы его собственных скособоченных механизмов восприятия? Хорошо бы сравнить с кем–нибудь свои впечатления, но только с кем? На тысячи квартир этого слепого, глухого, день ото дня приходящего во все большее запустение дома был всего лишь один жилец — он сам, Джон Изидор. Со временем все находящееся в этом доме сольется в нечто вроде рыхлого тошнотворно–бледного пудинга, в безликую однородную массу, которая заполнит все квартиры от пола до потолка, а позднее и само заброшенное здание будет бесформенной грудой, укроется серым рыхлым саваном из вездесущей пыли. Само собой, меня к тому времени уже не будет — еще одно любопытное обстоятельство, требующее серьезного осмысления, думал он, стоя посреди комнаты, один на один со всесильной, всепроникающей, торжествующей тишиной.