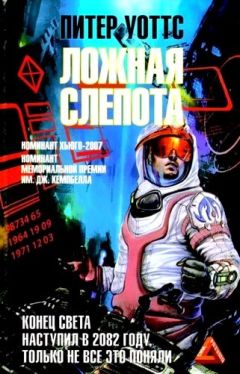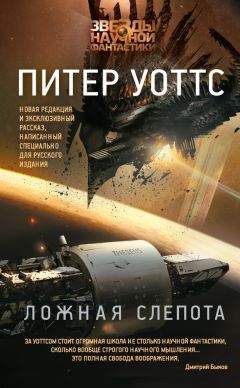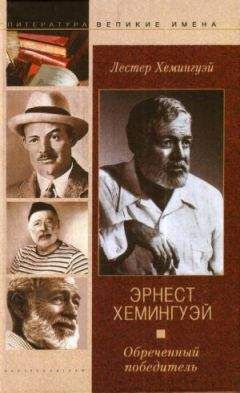Следующий люк зиял точно в центре передней стенки барабана; трубы и провода проходили через переборку. Я уцепился за подвернувшуюся скобу, чтобы сбросить скорость, – снова стиснул зубы от боли – и проплыл через него.
Т-образный перекресток. Главный коридор шел дальше, но от него отходил короткий дивертикул к ВКД-отсеку[8] и переднему шлюзу. Я не свернул. Впереди сверкала гробница, зеркально-светлая, меньше двух метров в высоту. По левую руку зияли опустевшие саркофаги, по правую теснились занятые (мы были так незаменимы, что каждому полагалась запаска). Дублеры безмятежно спали. С тремя я встречался на тренировках. Будем надеяться, что возобновить знакомство ни с кем не придется. Однако по правому борту – всего четыре капсулы. Сарасти замены нет…
Еще один люк, совсем маленький. Я протиснулся на мостик. Сумрачно; беззвучно плывут иконки, мозаика индикаторов итерирует отражениями в темном стекле. Не столько рубка, сколько кокпит, и притом тесный. Я выполз между двумя противоперегрузочными ложами; перед каждым – подковообразный пульт. На самом деле никто не собирался ими пользоваться: «Тезей» превосходно управлял собой сам, а в нестандартной ситуации мы могли рулить кораблем через имплантаты; если не сработают они, то, скорее всего, мы сыграем в ящик. И все-таки, если другого варианта не останется, в случае астрономически малой вероятности неустрашимые исследователи могут отсюда положить корабль на обратный курс, к дому.
Между приступками для ног инженеры втиснули последний люк и последний лаз – в смотровой блистер на носу «Тезея». Ссутулившись (суставы хрустели, жилы ныли), я протолкнулся… в темноту. Снаружи блистер плотно сжатыми веками накрывали щитки-раковины. Слева от люка на сенсорной панели слабо светилась единственная иконка; из корабельного хребта через люк тянулись тонкие лучики, бессильными пальцами оглаживая вогнутую стену и окрашивая ее несчетными оттенками серого и сизого, по мере того как мои глаза приспосабливались к мраку. На задней стенке от легких дуновений ветерка колыхались крепежные ремни. От застоявшегося воздуха во рту сразу появился привкус смазки и металла. Пряжки еле слышно побрякивали на сквозняке, будто маленькие китайские колокольчики.
Я протянул руку и коснулся хрусталя: внутреннего слоя из двух. Между ними шел теплый воздух, отсекая стужу. Но не до конца, так что пальцы мгновенно застыли. Снаружи – космос.
Может, на пути к нашей первоначальной цели «Тезей» обнаружил что-то такое, от чего с перепугу ломанулся за пределы Солнечной системы. Но, скорее всего, корабль не бежал, а стремился к объекту, о котором не было известно, когда мы умерли и попали на небеса. А в таком случае…
Я потянулся назад и коснулся панели. Почти ожидал, что ничего не случится; закрыть окна «Тезея» на замок было так же просто, как убрать логи связи подальше от посторонних глаз. Но купол передо мной растворился сразу – вначале трещина, затем полумесяц, потом выпученный глаз, чьи радиозащитные веки втянулись в корпус. Мои пальцы рефлекторно вцепились в комок ремней. Бездна распростерлась во все стороны, безжалостная и голая. Было не на что опереться, кроме металлического диска меньше четырех метров в диаметре.
Звезды повсюду. Столько звезд, что, хоть убей, я не мог понять, как они умещаются на небе, когда оно остается таким черным. Звезды и… ничего больше.
«А чего ты ожидал? – укорил я себя. – Корабль чужаков справа по курсу?»
Почему бы нет? Ведь мы зачем-то сюда прилетели.
По крайней мере остальные члены экипажа. Они оставались критически важными для успеха миссии, где бы мы ни оказались. А вот синтет, как я теперь понял, находился в совсем ином положении. Моя полезность уменьшалась с расстоянием. Нас же занесло за половину светового года от дома.
* * *
Когда стемнеет, станут видны звезды.
Ральф Уолдо Эмерсон [9]
Где я был, когда на землю обрушились огни? Выходил из небесных врат, оплакивая отца, который, по его мнению, все еще был жив.
С тех пор как Хелен ушла под капюшон, минуло почти два месяца. Это по нашему счету два месяца. Она могла прожить день, а могла и лет десять: виртуальные боги, кроме всего прочего, настраивали часы субъективного времени. Возвращаться мать не собиралась. С мужем соизволяла встречаться только на условиях, равнозначных пощечине. Он не жаловался и навещал ее всякий раз, когда жена позволяла: дважды в неделю, потом раз в неделю, затем – раз в две недели. Их брак распадался с экспоненциальной обреченностью радиоактивного изотопа, и все же отец тянулся к Хелен и принимал ее условия.
В день, когда на Землю рухнули огни, я вместе с ним стоял у ложа матери. Случай особый – последний раз, когда мы могли увидеть ее во плоти. Два месяца ее тело, вместе с пятью сотнями других новопоступивших в приют, лежало в приемной, доступное для обозрения родственникам. Конечно, контакт оставался иллюзией, как и должен был: тело не могло с нами общаться, но мы все еще на него смотрели: плоть была теплой, а простыни – чистыми и глажеными. Из-под капюшона выглядывала нижняя челюсть Хелен, глаза и уши закрывал шлем. К ней можно было прикоснуться. Отец часто так и делал. Возможно, некая частичка ее сознания это ощущала.
Тем не менее, в конце концов, кому-нибудь придется захлопнуть гроб и сплавить останки: потребуется место для новоприбывших. Мы пришли, чтобы провести с матерью последний день. Джим еще раз взял жену за руку. С ней по-прежнему можно будет общаться – в ее мире и на ее условиях, – но к вечеру остов упакуют в хранилище, слишком эффективно утрамбованное, чтобы принимать посетителей из плоти и крови. Нас уверяли, что тело останется в целости: тренировка мышц электростимуляцией, регулярное питание и обогрев. Оболочка будет готова вернуться к работе, если рай вдруг пострадает в неподдающейся воображению катастрофе. Все обратимо, объясняли нам. Но восходящих стало так много, а никакие катакомбы не могут расширяться до бесконечности. Ходили слухи о расчленениях и усечении несущественных частей согласно алгоритму оптимальной упаковки. Вероятно, к следующему году от Хелен останется один торс, а еще через год – лишь отрубленная голова. А может, ее тело срежут до самого мозга, прежде чем мы выйдем из здания, да так и оставят ждать последнего технологического прорыва, который возвестит начало Великой цифровой перезаписи.
Слухи! Лично я не встречал никого, кто вернулся бы после восхождения. Хотя кто захотел бы? Даже Люцифер покинул небеса, только когда его с них сбросили.