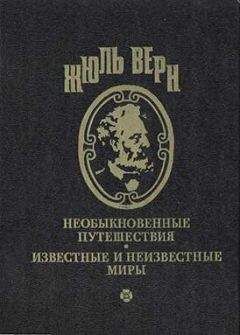Я очень хорошо видел, что этот милый человек пытается не вступать со мной в пререкания, ведь сумасшедшим надо потакать.
— Доктор, — сказал я, — послушайте… Я буду покорно исполнять ваши предписания… Я не хочу красть у вас… свои деньги. Но позвольте задать вам один вопрос.
— Говорите, дражайший клиент.
— Сегодня у нас воскресенье?
— Первое воскресенье августа.
— Какого года?
— Начало безумия характеризуется именно потерей памяти, — пробормотал он. — Это, видимо, надолго.
— Какого года? — настаивал я.
— Года…
Но в тот самый момент, когда доктор собирался ответить, ему помешали какие-то громкие крики.
Я обернулся. К нам приближался странный на вид человек лет шестидесяти, окруженный толпой зевак. Он выглядел растерянным и, казалось, с трудом удерживался на ногах. Можно было бы сказать, что от него осталась только половина.
— Кто это? — спросил я у доктора.
Тот взял меня за руку:
— Надо бы его отвлечь, иначе его мономания прогрессирует так быстро, что…
— Я вас спросил, кто этот человек и почему толпа осыпает его насмешками?
— Этот человек! — ответил доктор. — Как, вы спрашиваете меня, кто он такой? Но это же единственный и последний холостяк, оставшийся во всем департаменте Соммы!
— Последний?
— Вне всякого сомнения! Слышите, как над ним издеваются?
— Стало быть, теперь запрещается быть холостяком! — воскликнул я.
— Почти что… После введения налога на холостяков. Это прогрессивный налог. Чем человек старше, тем больше он платит, а поскольку, с другой стороны, он имеет все меньше возможностей для заключения брачного союза, то в короткий срок доходит до полного разорения. Несчастный, которого вы видите, просадил на этом налоге целое состояние!
— А у него что же, такое непобедимое отвращение к прекрасному полу?
— Нет, это у прекрасного пола к нему непобедимое отвращение. Он триста двадцать шесть раз терпел неудачу при попытке вступить в брак.
— Но, в конце-то концов, остались же хоть какие-нибудь незамужние девушки?
— О, очень мало! Очень мало! Как только они достигают брачного возраста, так сразу же выходят замуж.
— А вдовы?
— Ах, вдовы! Им не дают времени перезреть. Едва лишь пройдет десять месяцев, как пожалуйте в мэрию. На данный момент, полагаю, во всей Франции найдется не более двадцати пяти незанятых вдов.
— Ну а вдовцы?
— О, они-то свой срок отбыли! Их освобождают от этой обязательной службы, и им нечего бояться налоговых агентов.
— Теперь-то я понимаю, почему на бульварах полным-полно старых и молодых пар, соединенных брачным покровом.
— Который на самом-то деле является лишь флагом реванша, дорогой мой пациент! — ответил доктор.
Я не смог удержаться от смеха.
— Пойдемте, пойдемте, — проговорил он, сжимая мою руку.
— Минуточку!.. Так мы и правда в Амьене, доктор?
— Опять он за свое! — недовольно пробурчал он.
Я повторил свой вопрос.
— Да-да, в Амьене.
— А год у нас какой?
— Я же вам сказал…
Но слова его заглушил тройной свист, за которым последовало гудение рожка. Громадный экипаж приближался к нам по улице Бове.
— Посторонитесь, посторонитесь! — крикнул доктор и толкнул меня в бок.
Мне показалось, что он сквозь зубы добавил:
— Не хватало еще, чтобы он сломал себе ногу! Пришлось бы оплачивать лечение из своего кармана!
Подъезжающий экипаж оказался трамваем[38]. Я еще не упомянул о том, что на всех улицах города были уложены рельсы, и, надо признаться, эту новинку я нашел вполне естественной, хотя еще накануне и речи не было о трамваях или омнибусах.
Доктор сделал водителю огромного экипажа знак, и мы заняли места на платформе, уже заполненной пассажирами.
— Куда вы меня везете? — спросил я совершенно безучастно.
— На региональную выставку.
— В Ла-Отуа?[39]
— В Ла-Отуа.
— Значит, мы все-таки в Амьене?
— Ну да, — ответил доктор, бросая на меня умоляющие взгляды.
— И каково же теперь, после введения налога на холостяков, население города?
— Четыреста пятьдесят тысяч жителей.
— И какой же сейчас милостью Божьей год?
— Год милостью Божьей…
Второй гудок рожка снова помешал услышать ответ, в высшей степени меня интересовавший.
Экипаж повернул на Лицейскую улицу, направляясь к бульвару Корнюо.
Когда мы проезжали мимо коллежа, у часовни которого теперь был вид старинного памятника, меня крайне поразило число воспитанников, отправлявшихся на воскресную прогулку. Мне не удалось скрыть своего удивления.
— Да, здесь учится четыре тысячи! — сообщил доктор. — Целый полк.
— Четыре тысячи! — воскликнул я. — Ого! Такому полку наверняка приходится сражаться с варваризмами и солецизмами[40].
— Но, дорогой мой, — возразил доктор, — попробуйте напрячь память. Ведь уже по меньшей мере сто лет, как в лицеях перестали преподавать греческий и латынь. Обучение там исключительно научное, коммерческое и промышленное.
— Разве такое возможно?
— Да, и вы сами хорошо знаете, что случилось с тем несчастным, который получил в последний раз награду за латинское стихосложение.
— Нет, — твердо заявил я, — мне это неизвестно.
— Тогда слушайте. Когда он появился на эстраде, ему чуть не проломили голову градусом[41] а господин префект от растерянности едва не задушил его в объятиях!
— И с тех пор в коллежах перестали учить латинскому стихосложению?
— С тех пор там не услышишь и полустрофы гекзаметра[42].
— Заодно изгнали и латинскую прозу?
— Нет, только два года спустя, и с полным основанием! Знаете ли вы, как на экзамене на степень бакалавра самый сильный из кандидатов перевел полустишие «Immanis pecoris custos»?[43]
— Нет.
— «Сторож огромного животного».
— Да что вы!
— A «Patiens quia getemus»?[44]
— Не могу догадаться!
— «Больной, потому что чихает»![45] И тогда гроссмейстер университета[46] понял, что пришло время отменить преподавание латинского языка в школах.
Честное слово, я так и покатился со смеху! Даже выражение лица доктора не могло меня удержать. После этого стало очевидно, что мое безумие приняло в его глазах угрожающий характер. Полное отсутствие памяти, с одной стороны, и дикие взрывы неуместного хохота — с другой. Было от чего прийти в отчаяние.
Неизвестно, как долго я продолжал бы веселиться, если бы красота этой части города не привлекла мое внимание.