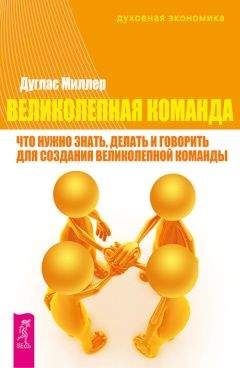У меня нет сомнений, что Кармин Калабро страдал серьезным нервным расстройством. И ничего не предвещало улучшения его состояния. В то же время я глубоко убежден, что даже самые тяжелые психические больные понимают разницу между добром и злом. Извращенные фантазии - ещё не преступление. Преступление начинается тогда, когда человек принимается действовать, сообразуясь со своими фантазиями, и причиняет вред другим.
К началу 80-х годов у меня на руках ежегодно оказывалось около 150 дел и примерно столько же дней я проводил в дороге. Я начинал себя ощущать, как старающаяся обогнать конвейер на конфетной фабрике Люсилль Болл (Популярная актриса, звезда радио и ТВ, четырежды получавшая премии «Эмми» за участие в телесериале 50-х г. «Я люблю Люси», позже неоднократно повторявшемся различными телекомпаниями.прим.ред.) в знаменитом комедийном сериале «Я люблю Люси», - чем больше на меня наваливалось, тем яростнее я стремился вперед, чтобы не отстать. В погоне за добычей некогда было передохнуть.
По мере того как о нас узнавали, просьбы о помощи словно из рога изобилия сыпались со всех концов США и из зарубежных стран. Подобно офицеру на оперативном дежурстве, приходилось отбирать приоритетные случаи. Главным образом те, когда я чувствовал, что опасность грозит новым жертвам.
Если случай представлялся «холодным» и «неизвестный субъект» неактивным, я запрашивал полицию, почему они нас пригласили. Иногда это происходило под давлением родственников погибших. Мои чувства были всецело на их стороне, но я не имел возможности тратить драгоценное время на дело, которое вполне могли разрешить местные детективы. С активными случаями всегда задаешься вопросом, откуда приходит заявка. Если из крупных полицейских управлений - таких, как, скажем, нью-йоркское или лос-анджелесское, - у меня, особенно на ранних стадиях действия программы, всегда закрадывалось подозрение: с какой стати они вообще обратились в Квонтико. Иногда речь шла об извечной вражде юрисдикции местных органов с ФБР. Никак не могли договориться, например, кому принадлежат сделанные скрытой камерой пленки, кто будет вести допрос или заниматься серией банковских краж. Если же дело касалось политически горячих сюжетов, люди на местах могли хитрить, подставляя под огонь других. Все эти соображения следовало принимать во внимание, соглашаясь или не соглашаясь на сотрудничество, потому что именно от них зависело, можно ли раскрыть дело.
Сначала я предоставлял клиентам письменный анализ. Но по мере того, как количество дел росло, у меня не стало хватать на это времени. Изучая материалы, я делал заметки и, разговаривая со следователем - лично или по телефону, - просматривал записи и вспоминал случай. Как правило, копы делали собственные заметки. Но если в тех редких ситуациях, когда я оказывался с полицейским в одной комнате и видел, что он только слушает, но ничего не пишет, быстро выходил из себя и говорил, что это его дело, а не мое, и ему лучше как следует подмазать задницу и засучить рукава, как я. Подобно врачу, я набрался опыта и точно знал, сколько должен продолжаться «визит в кабинет». И когда просматривал дело, понимал, смогу ли помочь, поэтому сразу старался сосредоточиться на анализе картины преступления и жертве. Почему из всех возможных была выбрана именно эта жертва? Каким образом она была убита? Отталкиваясь от двух этих вопросов, подходишь к самому главному: кто преступник?
Вслед за Шерлоком Холмсом я быстро осознал: чем обыденнее преступление, тем меньше в нём поведенческих улик, с которыми можно работать. При раскрытии уличного грабежа толку от меня немного. Такие преступления слишком ординарны, и подозреваемых хоть пруд пруди. Точно так же одиночный выстрел или единственный удар ножом представляют гораздо более трудный сюжет, чем труп со множественными ранениями, убийство на улице сложнее убийства в доме: одна жертва из категории повышенного риска менее информативна, чем целая серия жертв.
Прежде всего я знакомился с медицинским заключением: каков характер ран, что послужило причиной смерти, была ли жертва изнасилована и если да, то каким образом. Качество экспертизы в различных полицейских округах оказывалось далеко не равнозначным. В некоторых работу проводили судебные патологоанатомы и она оказывалась первоклассной. Например, доктор Джеймс Люк из Вашингтона всегда составлял точные и детальные протоколы, на которые мы всецело полагались. Уйдя в отставку, он стал ценнейшим консультантом в Квонтико. С другой стороны, в одном небольшом южном городке я столкнулся с ситуацией, когда коронёром был директор похоронного бюро. Все его представление о посмертной экспертизе сводилось к тому, что он появлялся на месте преступления, пихал труп ногой и веско произносил:
– А парень-то точно загнулся.
Потом я переходил к связанным с телом находкам и читал предварительный полицейский рапорт. Что видел первый прибывший на место преступления полицейский офицер? С того момента картину могли изменить - либо он сам, либо кто-нибудь другой из следственной бригады. Мне важно было увидеть все как можно ближе к тому, как это видел преступник. И отметить мельчайшие изменения. Например, если на лице жертвы находилась подушка, кто ее туда положил? Была ли она там, когда прибыл полицейский? Может быть, ее положил родственник из уважения к жертве. Или существовало другое объяснение? Затем я разглядывал фотографии и старался связать все воедино. Фотоотпечатки были не всегда удовлетворительного качества, особенно раньше, когда в большинстве управлений производили только черно-белую съемку. Поэтому кроме фотографий я запрашивал схематические рисунки с обозначением сторон горизонта и всех замеченных следов. Если детективы хотели на что-то особо обратить мое внимание, я просил писать на обороте отпечатков, чтобы при первом взгляде чужое мнение не мешало восприятию. По той же причине, если у них, среди прочих, имелся главный подозреваемый, я не хотел знать его имени либо требовал прислать в запечатанном конверте, чтобы знание не влияло на объективность анализа. Важно также было узнать, пропало ли что-нибудь у жертвы или с места преступления. Если речь шла о деньгах, дорогих или известных украшениях, мотивы кражи не вызывали сомнений. Труднее обстоялодело с другими предметами.
Когда полицейский или детектив сообщал мне, что ничего не пропало, я обычно переспрашивал:
– А откуда вы знаете? Неужели хотите сказать, что заметите, если из шкафа вашей жены или подружки стянут бюстгальтер или трусики? Да вы просто наивняк.
Изчезнуть может самая мелочовка: заколка для волос или локон, а отследить это практически невозможно. Сообщение, будто бы ничего не пропало, я не принимал во внимание. И когда мы ловили преступника и шарили у него в закромах, то находили самые удивительные «сувениры». С самого начала было ясно, что многие люди как вне, так и внутри самого Бюро не понимают, кто мы такие. С особой очевидностью я почувствовал это в 1981 году во время двухнедельных курсов при управлении полиции города Нью-Йорка, где мы с Бобом Ресслером рассказывали о проблемах раскрытия убийств. В аудитории собралось около сотни детективов - не только из города, но и со всего региона.