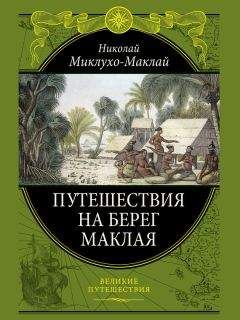Как бы завидовали мне мои современники, особенно ученые! И они знали великую радость познания, но они познавали прошлое и настоящее, и только мне, первому из людей, удалось познакомиться с будущим!
Я сел, раскрыл книгу, в которой шла речь об интересующей меня проблеме.
«Человек. Кто он? — задавал вопрос автор. Он спрашивал себя и историю, философию и науку. — Кто же он, человек, ставший хозяином солнечной системы, проникший в глубины Галактики? Чем он отличается от других существ?»
На минуту мое «я» как бы слилось с «я» автора этой книги. Спрашивал и он и я, мы спрашивали оба. «Человек! Кто он?»
«Человечество познавало природу, — писал он, — моделируя ее процессы. Искусство моделирования достигло величайшего мастерства уже в XX веке… У себя в лабораториях ученые воссоздавали целые миры в миниатюре. Благодаря точному воспроизведению физико-химических условий, существовавших на Земле накануне возникновения жизни, они проникли в тайну былого. Но легко ли было создать модель психических процессов, подобие человеческого мозга? Нет, не легко, но необходимо. Человеку нужно было взглянуть на себя со стороны, оторваться от всего субъективного, личного, чтобы осуществить это моделирование… Был создан искусственный мозг. Мышление отделилось от человеческой личности, стало безличным, машинным… Помогло ли это человеку увидеть себя со стороны, понять то, что было непонятным и до некоторой степени загадочным? И да и нет. Мышление как бы отделилось от человека, но было ли человечным и человеческим? Не произошла ли дегуманизация мышления? Философы спорили, ученые искали ответа. Не искусствоведы, а физиологи и кибернетики вдруг вспомнили о художнике XVI века Питере Брейгеле-старшем и о его странном видении мира и видении человека. Брейгель видел человека как бы со стороны, отделившись от человечества… В этом гениальном художнике было что-то от машинного, сверхличного и сверхиндивидуального видения… Изображая человека, он не сочувствовал ему, а как бы только удивлялся его странному бытию, словно прибыл на землю с другой планеты. Дегуманизированное, утилитарное, машинное мышление. Оно развивалось, из утилитарного оно становилось теоретическим. Думающие машины служили познанию. Правда, они думали для человека, а не для себя. Но они умели думать, мыслить… И уже появились легкомысленные теоретики, которые пытались поставить знак равенства между думающими машинами и людьми…»
Я невольно должен был оборвать чтение заинтересовавшей меня книги — вошел Павел Погодин. Он был чем-то взволнован.
— Что случилось, Павел? — спросил я. — Уж не заболел ли маленький Коля?
— Коля здоров, — ответил Павел, — но случилось большое несчастье с Митей. Разве вы не знаете?
— Митя — вещь. Какое с ним могло случиться несчастье? Утром он был здесь. Но потом я забыл о нем, погрузившись в чтение.
— Митя — вещь? — сказал Павел. — Это большой вопрос! Вещи так не поступают. Митя пытался покончить с собой. Он бросился со скалы в Катунь. Его только что спасли. Но он бредит…
Я с детства испытывал острый интерес к необыкновенным и выдающимся людям. Я рано начал коллекционировать книги, которые повествовали о выдающихся личностях, прежде всего об ученых, техниках, путешественниках, писателях, политических деятелях. Но вот рядом со мной работал выдающийся и, может, даже гениальный человек, и я не сумел оценить его так, как он это заслуживал.
Профессор Обидин, в сущности, ничем не выделялся среди других сотрудников нашего научно-исследовательского института. Свою научно-исследовательскую работу одно время он совмещал с должностью председателя месткома. Кто мог думать, что этот скромный председатель месткома, тративший уйму времени на мелкие хозяйственно-бытовые вопросы, через триста лет займет место рядом с Ньютоном, Дарвином, Циолковским, Эйнштейном, Резерфордом, что его будут называть величайшим из биологов-экспериментаторов, когда-либо живших на Земле. Кто мог предполагать, что имя, труды и слава старшего научного сотрудника Обидина перешагнут через земные и солнечные границы и станут известными на далеких обитаемых планетах Галактики.
Нельзя сказать, что в нашем институте вовсе не ценили талант Обидина. Ценить ценили, но по-своему.
— Посмотрим! — говорили наши скептики. — Может, и оправдаются его некоторые идеи. Но пока… Пока они все еще находятся в стадии ожиданий и обещаний.
Они говорили «обещаний», но Обидин никому ничего не обещал. И мне кажется, что это была самая большая его ошибка, если смотреть на дело практически. Наоборот, он спешил вселить во всех уверенность, что реализация его главной идеи лежит где-то далеко в будущем. Оказалось же, что она была совсем не за горами.
Обидин тренировал клетки, приучая их к космическому холоду, к температурам, близким к абсолютному нулю. Но сам он любил тепло, любил уют, любил домашнюю обстановку. И при всем этом, как я впоследствии узнал, Обидин страшно боялся, чтобы про него, не дай бог, не подумали, что он узкий специалист, кабинетный или лабораторный затворник. Может быть, поэтому он ходил зимой на лыжах, героически борясь с одышкой и болью в пояснице. Может быть, поэтому он осенью купался в Неве, вопреки строжайшему запрещению врача, лечившего его от радикулита. Может, для этого он ходил скучать в Филармонию и в Малый оперный театр. И не по этой ли самой причине он стал ухаживать за Лизой Галкиной, новой нашей лаборанткой?
О чем он мог говорить с Лизой? О погоде? О новой кинокартине, которую видела Лиза, но не видел он? О нейлоновой кофточке, которую Лиза на днях купила? Неужели он мог выслушивать Лизины суждения о сотрудниках и сотрудницах лаборатории, суждения не очень умные, не всегда справедливые и доброжелательные? И для чего? Чтобы сказать самому себе, что ему, Обидину, не чуждо ничто человеческое? А может быть, и в самом деле на старости лет он влюбился в эту румяную, полнотелую женщину, не умевшую даже нарядить со вкусом свое крупное, тяжелое, колыхавшееся на ходу тело?
Интерес к Обидину как ученому и выдающемуся человеку возрастал с каждым столетием. О нем было написано множество книг, в которых освещалась и его личная жизнь и его научная деятельность. Опубликована была его переписка и его дневник.
Дневник Обидина чуточку разочаровал меня. Он был слишком сух, в нем было много о деле и мало о себе. Упоминал Обидин в своем дневнике и обо мне. В одном месте было сказано: «нетерпеливый малый». Так прямо и написано: «нетерпеливый», — и при этом выделено курсивом. А в чем, собственно, выражалось мое нетерпение? Об этом умалчивалось. В другом месте было сказано: «нетерпеливый, но любознательный». Спасибо и за это! Но как действительно понять это несправедливое и не слишком удачное выражение — «нетерпеливый»? Так было сказано про человека, который терпеливо пролежал триста лет, ожидая, когда наука свяжет две разорванные половины его жизни! Современники редко бывают справедливыми, а потомки — точными. Я нашел множество неточностей и немало грубых ошибок в книгах об Обидине. Даже в этой его биографии, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей», было немало неточного, вымышленного и не вполне соответствующего действительным фактам. Например, я не мог читать без усмешки те главы этой предназначенной для широкой публики книги, где рассказывалось об отношениях Обидина и лаборантки Лизы Галкиной. Эти отношения были для чего-то очень опоэтизированы и романтизированы, и Лиза Галкина с этих страниц вставала не совсем похожей на себя. Занятиям Обидина спортом автор тоже придавал слишком большое значение, и, читая эти места книги, можно было подумать, что Всеволод Николаевич был выдающимся рекордсменом, чемпионом лыжного спорта, знаменитым альпинистом и человеком большой физической закалки, когда на самом деле он постоянно болел и часто простужался.